Разделы
Рекомендуем
• Линии производства профиля ПВХ в России . Компания JWELL специализируется на поставках передового оборудования для экструзии. Мы предлагаем экструзионные линии для производства профиля из древесно-полимерных композитов (ДПК) и ПВХ, которые соответствуют международным стандартам качества.
Счетчики
2. Переводы 1830-х годов. — М.П. Вронченко («Гамлет», «Макбет»). — В.А. Якимов («Венецианский купец», «Король Лир»). — Переводы для театра: «Жизнь и смерть Ричарда III» Я.Г. Брянского; «Отелло» И.И. Панаева. — «Гамлет» в переводе Н.А. Полевого. — «Виндсорские кумушки». — В.А. Каратыгин («Король Лир», «Кориолан»)
В истории перевода шекспировских произведений на русский язык в конце 1820-х — начале 1830-х годов обозначился новый этап. Вольные переделки, переложения французских переложений, «склонение на русские нравы» и т. п., которые практиковались до тех пор, уже не удовлетворяли требованиям русской культуры. Стало ясно, что «Шекспир должен явиться в чистом своем виде, без всякой посторонней примеси, истым Шекспиром и ничем более».1 Потребность в этом ощущали одновременно и независимо друг от друга разные литераторы. М.П. Погодин замечал в «Московском вестнике»: «Не стыд ли литературе русской, что у нас до сих пор нет ни одной его (Шекспира, — Ю.Л.) трагедии, переведенной с подлинника?».2 Даже Жуковский, отнюдь не принадлежавший к числу поклонников английского драматурга, писал А.П. Киреевской о ее сыне: «Петр когда-то говорил мне о намерении переводить Шекспира: вот дело на целую жизнь и какая была бы услуга для русского языка».3
В 1827—1828 гг., почти одновременно, независимо друг от друга начинают многолетнюю работу над переводом Шекспира никому еще неведомый офицер-геодезист М.П. Вронченко и известный литератор, заточенный в крепость поэт-декабрист В.К. Кюхельбекер. В начале 30-х годов за то же дело принимается адъюнкт Харьковского университета Василий Якимов, который ставит перед собою цель: «Перевести, хотя бы и посредственно, 37 созданий Шекспировых».4 Тогда же переводит «Отелло» и другие пьесы Шекспира П.В. Киреевский.
Далеко не все переводы были изданы. Ни один из переводов Кюхельбекера не увидел света. Не издавались и, возможно, в настоящее время утрачены переводы П.В. Киреевского. Из переводов Якимова известны лишь два — изданные в 1833 г. «Король Лир» и «Венецианский купец». М.П. Погодин сообщал С.П. Шевыреву 20 января 1832 г., что «перевел... кто-то Юлию и Ромео... с английского».5 Об этом переводе ничего неизвестно. Возможно, были и другие переводы, о которых мы не подозреваем. Во всяком случае, можно полагать, что обращение русских литераторов к переводу пьес Шекспира в конце 1820-х — начале 1830-х годов было несравненно более широким, чем о том позволяют судить печатные источники.
Господствующая в это время тенденция — перевод с подлинника. Когда в 1830 г. А.Г. Ротчев перевел шиллеровскую переделку «Макбета», нелепо озаглавив свой перевод: «Макбет. Трагедия Шакспира. Из сочинений Шиллера», это вызвало всеобщее осуждение и насмешки (см. выше, стр. 100). Актер Я.Г. Брянский при постановке в 1836 г. «Отелло» по переводу И.И. Панаева, сделанному с французского перевода, настоял, чтобы на афише значилось: «перевод с английского». «...А то еще подумают, что это переделка Дюсиса... Вы уж как хотите, а я выставлю перевод — с английского», — говорил он.6 Самый принцип перевода не с оригинала считался уже порочным.
В этом требовании перевода с подлинника проявилось новое, романтическое понимание иноязычного литературного произведения (в данном случае — пьес Шекспира) в его национальном и историческом своеобразии, признание неповторимой индивидуальности автора. В крайнем своем выражении такое понимание вело к пессимистическому отрицанию возможности перевода вообще. Мы уже приводили выше суждение Грибоедова, высказанное в 1828 г. в разговоре с К.А. Полевым, о том, что, как все великие поэты, Шекспир «непереводим, и непереводим оттого, что национален».7 И рецензент «Московского телеграфа» (возможно, Н.А. Полевой), критикуя «Макбета» Ротчева и указывая, что совершенный перевод должен быть «верным списком сущности, внешних форм и малейших подробностей подлинника», должен передавать «душу, колорит, оттенки творения чуждого», заключал: «В новейшее время, постигая народность литератур, самобытность языков, мы убеждаемся, что подобные совершенные переводы — почти невозможны».8 Менее пессимистичен был Плетнев, но и он считал задачу трудно выполнимой. «Если бы и удалось вам, — писал он, — со всею верностию передать тонкие, цветущие, вечно новые его (Шекспира, — Ю.Л.) идеи», оживить «его разнообразные лица, принадлежащие истории и фантазии», «одарить каждое действующее лицо волшебным светом драматической истины», это еще далеко не все. «...Вам надобно заставить нас чувствовать при каждом выражении, что автор, переводимый вами, был англичанин и поэт шестнадцатого столетия — два условия, в которых для переводчика таится неисчислимое множество труднейших требований».9
Осознание трудностей, связанных с передачей национальной и исторической специфики оригинала, ознаменовало новый этап русской переводческой культуры и повлекло за собой совершенное изменение принципов перевода. В конце 20-х годов, когда Вронченко, Кюхельбекер, а возможно, уже и Якимов и Киреевский трудились над Шекспиром, Гнедич завершал свой многолетний труд — перевод «Илиады» Гомера, а Вяземский перевел «Адольфа» Бенжамена Констана. При всем различии переводимых произведений, при всем индивидуальном различии переводчиков, работавших независимо друг от друга и применявших разные конкретные языковые средства, в их принципах перевода было много общего, и главное — стремление к максимальному приближению перевода к оригиналу, приближению, граничившему с буквализмом. В буквальной точности перевода проявились, с одной стороны, отрицание прежних методов вольных переложений, когда перевод являлся возведением к некоему идеалу, независимому от индивидуальных, национальных и исторических особенностей оригинала, и, с другой стороны, требование, чтобы переводчик не подменял собою автора, но целиком подчинился его замыслу, его поэтической форме. В то же время тенденция к буквализму отражала неразработанность методов адекватной передачи художественной формы при переводе. Она была явлением кризисным, но это был кризис роста русской переводческой культуры, связанный с превращением перевода из произведения более или менее самостоятельного, принадлежащего скорее переводчику, чем переводимому автору, в произведение подчиненное, задача которого была по возможности точно передать оригинал. Это был длительный процесс, и в конце 20-х годов мы отмечаем только его начало.10
* * *
«Имя Шекспира в России связано с именем г. Вронченки»,11 — писал в 1855 г. И.И. Панаев. Михаил Павлович Вронченко (1802—1855) был военным геодезистом и географом, но известностью он обязан в основном своей переводческой деятельности.12 Он переводил на русский язык крупнейших европейских поэтов: Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, Мура, Юнга, Мицкевича. Многие его переводы остались незаконченными, некоторые не были изданы.
Переводческому делу Вронченко отдавал все свободное от службы время, ставя перед собой цель — «изучать красоты великих художников, и по возможности усвоивать их отечественной литературе».13 Как писал Никитенко: «...переводы у него были не случайным занятием, а трудом сериозным, который он считал некоторого рода своим литературным призванием... и потому он принимался за него не только с одушевлением, но и с тщательною себя подготовкою. У него была строго обдуманная система переводов. Изучая предварительно переводимого им автора со всем, что к нему относилось, он старался сколь возможно точнее выразуметь прямой, настоящий смысл его творения... Главное дело, говорил он, узнать, что автор действительно думал или чего он хотел, а не то, что мог думать и хотеть, потому что переводить можно только сказанное, совершившееся, факт мысли и слова, а не ничто, у которого нет ни мысли, ни слова, ни образа, кроме тех, какие своевольно составляет себе фантазия толкователя».14 Этот своеобразный переводческий «позитивизм» Вронченко, отказ от комментаторского «мудрствования», в свое время отрицательно сказался на его переводе «Фауста»,15 но несомненно сыграл положительную роль при переводе Шекспира.
Перевод пьес Шекспира занимал центральное место в творчестве Вронченко. Начал он с «Гамлета», к которому приступил в 1827 г. в Дерпте.16 Здесь он сдружился с поэтом Н.М. Языковым. Как указывал впоследствии А.Н. Татаринов, Вронченко читал Языкову свои переводы из Шекспира и Мицкевича. «Языков, кажется, иногда поправлял их, — вспоминал Татаринов, — так как Вронченко было трудно владеть стихом».17
В ноябре 1827 г. перевод был закончен,18 и вскоре отрывки из него появились в «Московском телеграфе»,19 а в 1828 г. он был издан отдельной книгой.20 В дальнейшем Вронченко подверг перевод значительной правке и готовил новое его издание, которое, однако, не успел осуществить.21
Сразу же после «Гамлета» Вронченко принялся за «Макбета».22 Однако из-за служебных занятий работа над переводом затянулась. В 1833 г. было опубликовано первое действие трагедии.23 Спустя три года Вронченко представил полный перевод в цензуру, но он был запрещен,24 по-видимому, из-за содержавшегося в трагедии мотива цареубийства. Несмотря на запрещение, Вронченко читал перевод «Макбета» знакомым,25 а в следующем году ему удалось его издать.26 Сохранившаяся черновая рукопись показывает, что работа над переводом продолжалась и после его опубликования.27
В начале 1830-х годов Вронченко переводил «Короля Лира». В 1832 г. он опубликовал в «Московском телеграфе» I действие трагедии.28 В архиве А.В. Никитенко сохранились также рукописи непубликовавшихся переводов Вронченко из Шекспира. Это «Отелло», д. V, сц. 2, и «Ошибки» («Комедия ошибок»), д. I.29 Отсутствие датировок лишает возможности установить время их создания.
Своим переводом «Гамлета» Вронченко утверждал новые переводческие принципы, и он это ясно понимал. В письме к Полевому от 13 ноября 1827 г. он указывал, что стремился «удержать сколько возможно необыкновенный его (Шекспира, — Ю.Л.) способ выражения мыслей, часто столь же необыкновенных», и делал это, «решительно преодолев боязнь показаться странным».30 Новые принципы перевода Вронченко декларировал в предисловии к «Гамлету». Наиболее важные из них следующие:
«1) Переводить стихи стихами, прозу прозою, сколько возможно ближе к подлиннику (не изменяя ни мыслей, ни порядка их) даже на счет гладкости русских стихов...
«2) В выражениях быть верным, не оскорбляя однако ж благопристойности и приличия...
«3) Игру слов передавать даже на счет верности в изложении заключающейся в ней мысли, если мысль сия сама по себе незначительна».
Одновременно Вронченко подчеркивал научный характер своего перевода, выполненного с учетом новейших толкований и снабженного примечаниями, поясняющими текст. «...Переводя почти всегда стих в стих, часто слово в слово, допуская выражения малоупотребительные, я старался доставить моим соотечественникам сколько возможно точнейшую копию Гамлета Шекспирова; но для сего должно было сохранить красоты, почти неподражаемые — а в сем-то именно нельзя и ручаться», — завершал Вронченко изложение своих переводческих принципов (стр. XII—XV). Этих принципов он придерживался и в дальнейшем: ссылался на них в предисловии к переводу «Макбета» и фактически повторил их через 16 лет после «Гамлета» в предисловии к переводу «Фауста» Гете,31 и они обусловили как достоинства, так и недостатки его переводов.32
Его «Гамлет» очень точен, особенно для своего времени, когда в переводческой практике еще царил безудержный произвол и новая манера перевода только начинала устанавливаться. В своем стремлении к эквилинеарности он опередил современников как в России, так и в Европе. Вронченко, как правило, доносил до читателя шекспировскую мысль во всей ее сложности, глубине и значительности. Во многих местах своего перевода ему удалось, соблюдая точность в передаче мысли, сохранить дух и поэтическую силу подлинника. Вот, например, страстная речь Гамлета, обращенная к Лаэрту на могиле Офелии:
Скажи, что хочешь сделать ты? — Сражаться,
Лить слезы, в грудь разить себя, поститься,
Пить острый оцет, крокодилов жрать?
Я тож хочу! — или стенать ты станешь,
В досаду мне к ней бросишься в могилу? —
Вели зарыть себя — и я зароюсь!33
(Стр. 170)
Особенно хорошо удавались Вронченко лирические места трагедии. «Вообще там, где драматизм переходит в лиризм и требует художественных форм, с г. Вронченком невозможно бороться», — писал Белинский.34 Например, в словах тени, обращенных к Гамлету, переводчику удалось достичь высокой поэтичности:
Я дух бесплотный твоего отца;
Я осужден блуждать во мраке ночи,
А днем в огне томиться гладом, жаждой,
Пока мои земные преступленья
Не выгорят в мучениях. О, если б
Я властен был открыть тебе все тайны
Моей темницы! Лучшее бы слово
Сей повести тебе взорвало сердце,
Оледенило кровь и оба глаза,
Как две звезды, исторгнуло из мест их,
И, распрямив твои густые кудри,
Поставило б отдельно каждый волос,
Как гневного щетину дикобраза!
(Стр. 35)
Как и Кюхельбекер, Вронченко не смущается сложными шекспировскими метафорами. Например, в следующих словах короля:
There’s something in his soul
O’er which his melancholy sits on brood;
And, I do doubt, the hatch and the disclose
Will be some danger...
(III, 1, 173—176)...Грусть в его душе
Неведомый насиживает замысл;
И порожденье тайного птенца
Нам может быть опасно.
(Стр. 85—86)
Но, так же как и Кюхельбекеру, Вронченко не всегда удавалось преодолеть стоявшие перед ним трудности. Белинский писал о нем, что «ложное понятие о близости перевода и о русском слоге лишили его успеха на поприще, которое он избрал с такой любовию».35 Стремление к точности нередко приводило переводчика к созданию буквализмов, нескладных, насилующих язык, лишенных поэтической жизни, вроде следующего (в словах короля):
И как зовомый к двум равно деяньям,
Что предпринять, не зная, в обоих Я медлю.
(Стр. 109)
Отличительной чертой перевода Вронченко является определенная стилистическая приподнятость, не соответствующая оригиналу. Простая, например, фраза Гамлета: «Никогда не говорить о том, что вы видели» («Never to speak of this that you have seen»; I, 5, 153), — передается торжественным:
...не разглашать
Того, что взор ваш видел здесь!
(Стр. 42)
Вульгарному выражению Гамлета по поводу короля: «Тогда сшиби его, чтобы он брыкнул пятками небо» («Then trip him, that his heels may kick at heaven»; III, 3, 93) — в переводе придана величественность:
...порази тогда,
Чтоб, пяты к небу обратив, он пал.
(Стр. 110)
Той же цели служат всевозможные архаизмы (в частности, славянизмы), в изобилии встречающиеся в переводе: сей, почто, сродник, поспех, заплата (в значении — вознаграждение), персть, млеко, живот (жизнь), плесны, власы, препона, вежды, древо, матерь, мниться, помыслить, потщиться и многие другие. В отдельных случаях встречаются в переводе Вронченко и русизмы, особенно в словах могильщиков: «барин», «боярыня», или отмеченное Плетневым: «Хоть бабка репку пой!» (в песне могильщика — стр. 160).36
Архаизованная лексика в сочетании с усложненным синтаксисом, отрывистыми, сокращенными выражениями (вследствие стремления к эквилинеарности) делала часто перевод Вронченко темным, тяжелым, неудобочитаемым. Приведем, к примеру, два фрагмента из монолога Гамлета «Быть иль не быть»:
Уснуть? — Но сновиденья? — Вот препона:
Какие будут в смертном сне мечты,
Когда мятежную мы свергнем бренность,
О том помыслить должно...Так робкими творит всегда нас совесть;
Так яркий в нас решимости румянец
Под тению тускнеет размышленья,
И замыслов отважные порывы,
От сей препоны уклоняя бег свой,
Имен деяний не стяжают...
(Стр. 81—82)
Таковы были особенности, проистекавшие из самой переводческой системы Вронченко. Но были искажения (вернее, не искажения, а неточности), обусловленные интерпретацией образа Гамлета. Исходя из воззрения Гете, Вронченко считал датского принца благородным, добрым, но слабым, непостоянным, лишенным геройской твердости, играющим страдательную роль. «...Воспламеняясь и хладея попеременно, — писал Вронченко о Гамлете, — действуя только украдкою, прибегая к ненавистным ему средствам, хитрости и притворству, всегда печальный в душе и недовольный собою, он уклоняется более и более от своей цели и наконец совершенно теряет ее из виду в минуту развязки, ничем не приготовленной, неожиданной, устроенной случаем или провидением» (стр. XXI). Такое представление о Гамлете заставило переводчика подчеркивать слабость героя, усиливать соответствующие выражения. Это, по-видимому, происходило неосознанно и вызывало небольшие, подчас малозаметные отклонения. Но, постепенно накопляясь, такие отклонения в итоге искажали, впрочем незначительно, образ Гамлета.
Приведем несколько примеров. Слова Гамлета после встречи с актерами: «Какой же я негодяй и низкий раб!» («O! what a rogue and peasant slave am I!»; II, 2, 584; peasant здесь — низкий) — переведены: «О, я презренный и ничтожный раб!» (стр. 75). В том же монологе Вронченко стремится избежать грубого сравнения, которым Гамлет поносит себя: «как сама шлюха, как судомойка!» («like a very drab, a scullion!»; II, 2, 623—624); показательна сделанная при этом переводчиком замена: «Как слабое дитя!» (стр. 77). К словам, завершающим монолог Гамлета после встречи с войсками Фортинбраса, сделано характерное добавление, отсутствующее в оригинале:
Упейся ж кровью, праведное мщенье,
Иль вовсе я ничтожное творенье!
(Стр. 133)
Новаторский для своего времени перевод Вронченко был встречен с одобрением. А.В. Никитенко вспоминал впоследствии: «Нам памятно, какое сильное впечатление произвел Гамлет в переводе Вронченки, когда он появился в свет, на тогдашнее образованное наше общество и молодое поколение. Дух Шекспира впервые проник в умы и возбудил в них живое сочувствие к поэтической правде, к изображению глубоких, невымышленных таинств человеческого сердца и судьбы».37
Никитенко, возможно, несколько преувеличил широту резонанса, вызванного переводом Вронченко, но одобрение было действительно едино душным. Вот отзывы периодических изданий различных направлений: «Труд огромный и заслуживающий величайшую благодарность соотечественников. Здесь Шекспир, в прекрасном поэтическом переводе, является русским читателям тем огромным исполином, пред коим потомство преклоняет колена».38 «...Трагедия Шекспирова является у нас впервые со всеми высокими ее совершенствами и, по понятию некоторых строгих судей, со всеми ее странностями в истинном духе сего неподражаемого трагика».39 «В Гамлете г. Вронченка впервые явился нам Шекспир со всеми оттенками своей физиономии: с своим орлиным взглядом на жизнь и судьбу людей, с своим величественным челом, которое не омрачилось от сего горького прозрения».40 Рецензент «Литературной газеты», указав, что искусство перевода требует, «кроме природных дарований: глубокого знания языка, с коего переводишь, и привычки владеть своим; притом любви и уважения к подлиннику», замечал: «...с такими понятиями переводит ныне молодой, но уже зрелый поэт г-н Вронченко. Гамлет Шекспира, Манфред Байрона им переданы на русский язык с добросовестностию таланта».41
Сохранились и мемуарные свидетельства. И.И. Панаев вспоминал, что принялся в 1832 г. за перевод Вронченко и, «принудив себя прочесть его несколько раз, был поражен глубиною и величием этого произведения».42 18 февраля 1829 г. Никитенко записывал в дневнике: «Я прочитал Шекспирова Гамлета в очень хорошем переводе Вронченка, который... как переводчик одушевлен жаром и силою истинного поэта. Шекспир поразил меня глубиною и величием своего гения. Он, так сказать, сжимает в своих могучих объятиях природу и исторгает у нее такие тайны, которые, говоря его словами:
И не снились нашим мудрецам».43
Как свидетельствовал впоследствии Плетнев, после появления перевода Вронченко «не читавшие подлинника только теперь постигнули, что такое Гамлет и его судьба».44
Однако круг читателей перевода был сравнительно узок. По словам Белинского, «самые достоинства перевода г. Вронченко были причиною малого успеха "Гамлета" на русском языке! Такое колоссальное создание, переданное верно, было явно не под силу нашей публике, воспитанной на трагедиях Озерова и едва возвысившейся до "Разбойников" Шиллера»-45 Некоторых читателей отвращали от перевода его стилистические особенности, которые отмечались не столько в печати,46 сколько в частных письмах, беседах, дневниках. Катенин с присущей ему безапелляционностью суждений писал 27 мая 1829 г. Бахтину: «...прочел Вронченки перевод Гамлета Шекспирова: вряд ли он кого приманит».47
По свидетельству К.А. Полевого, Пушкин будто бы говорил о переводах Вронченко: «Да, они хороши, потому что дают понятие о подлиннике своем; но та беда, что к каждому стиху Вронченки привешена гирька».48 Резкое суждение Кюхельбекера в 1834 г. о том, что у Вронченко «русский язык изнасильствован», приводилось выше (стр. 153).
Редактируя свой перевод «Гамлета», Вронченко стремился устранить недостатки перевода, отмеченные критикой. При этом он, по-видимому, ориентировался на стиль пушкинской драматургии. Вот, к примеру, отрывки из второй редакции монолога «Быть иль не быть», соответствующие приведенным выше:
Уснуть, а может быть, и видеть сны?
Вот это и пугает нас! Не зная,
Что нам во сне посмертном может сниться.
Мы размышляем, медлим.Так в нас рассудок поселяет робость,
Так под его дыханием холодным
Румяный блеск решимости тускнеет,
И замыслы отважные, смиряясь
В своих порывах, не дерзают стать
Из мыслей делом.49
Судя по сохранившейся ее части, новая редакция перевода Вронченко превзошла бы не только вольный перевод Н.А. Полевого, но и перевод А.И. Кронеберга, считавшийся лучшим в XIX в., хотя он был довольно сух и малопоэтичен.50
Во втором своем полном переводе пьесы Шекспира — «Макбете» — Вронченко следовал тем же принципам, что и прежде, как писал об этом в предисловии к «Макбету».51 Однако сопоставление перевода с подлинником свидетельствует об известной эволюции его переводческой манеры. В новом переводе он позволял себе больше свободы, внимательнее относился к языку, реже допускал тяжелые обороты, архаическую лексику52 и т. д. Благодаря этому язык перевода при большой его точности был сравнительно легче, чем в «Гамлете». Приведем для примера начало монолога Макбета перед убийством Дункана:
Что вижу я перед собой? Кинжал!
И рукоять обращена ко мне!
Дай взять себя! Рука хватает воздух!
Ужель ты, призрак грозный, осязанью
Не подлежишь, как взору? Иль ты только
Кинжал души, лишь образ, воспаленным
Созданный мозгом?
(Стр. 32)
Правка в черновой рукописи показывает, что Вронченко и дальше стремился придать речи действующих лиц разговорный характер. Например, в обращении Макбета к гостям после явления призрака Банко (д. III, сц. 4), которое в печатном тексте было вполне естественным:
Виноват,
Друзья! Я напугал вас. Я подвержен
Болезни странной, хоть и не опасной —
Домашние привыкли к ней,
(Стр. 71)
он добивался большей плавности и простоты:
Не взыщите
И не пугайтесь, дорогие гости!
Тут ничего нет важного: болезнь —
Домашние привыкли к ней.53
При переводе «Макбета» Вронченко чувствовал себя свободнее, чем раньше. В некоторых случаях он отказывался от передачи особо замысловатых шекспировских метафор (например, вместо; «привинти смелость к положенному ей месту» — «screw your courage to the sticking-place», I, 7, 60 — «смело Берись за дело», стр. 28), упрощал сложные выражения («Будь у меня три уха, я бы всеми слушал тебя» — Had I three ears, I’d hear thee, IV, 1, 78 — «Я слух напряг всей силой — говори!», стр. 85), отказывался от концевых рифм, считая их несущественными,54 допускал отступления от оригинала в передаче заклинаний ведьм и т. д. Все эти «вольности» (весьма, правда, ограниченные на фоне переводческой практики рассматриваемого периода) имели целью сделать перевод легче, естественнее и поэтичнее.
Большим поклонником нового вронченковского перевода был Белинский, дважды назвавший его в печати «превосходным»55 и использовавший цитату из него в своей статье о «Горе от ума» (1840).56 «Г-н Вронченко... — писал Белинский, — перевел "Макбета" и как еще перевел! Несмотря на видимую жесткость языка в иных местах, от этого перевода веет духом Шекспира, и когда вы читаете его, вас объемлют идеи и образы царя мировых поэтов».57
Однако, несмотря на свои достоинства, новый перевод не имел успеха и прошел почти незамеченным. Только в «Северной пчеле» появилась отдельная рецензия на него, в которой пересказывалось содержание трагедии, а о переводе было сказано лишь, что он написан «сильным и чистым языком весьма близко к подлиннику».58 Да еще Плетнев упоминал его в своей статье о новых переводах из Шекспира.59 На новый перевод Вронченко почти не было спроса. Белинский сообщал Боткину 19 февраля 1840 г.: «..."Макбета", переведенного известным литератором — Вронченко, разошлось ровно ПЯТЬ экземпляров».60 Возможно, причина этого заключалась в том, что на русском языке уже существовал перевод шиллеровской переделки «Макбета», сделанный Ротчевым.
Вронченко первый применил новые принципы и методы перевода к произведениям Шекспира. Его заслугу, значение его переводческой деятельности для освоения Шекспира в России наиболее точно определил Тургенев. «Как работа приуготовительная, — писал Тургенев о Вронченко, — его переводы всегда приносили большую пользу: они знакомили публику с произведениями замечательными, возбуждали и поощряли других; его "Макбет", его "Гамлет" отличаются довольно определенным колоритом; мы не можем забыть, что любовь к Шекспиру собственно им возбуждена в кругу наших читателей».61
Деятельность В.А. Якимова как переводчика Шекспира, при всем несовершенстве достигнутых им результатов, была весьма характерной для его эпохи. Василий Алексеевич Якимов (1802—1853) окончил в 1826 г. словесный факультет Харьковского университета, где с 1831 г. преподавал русскую словесность. В 1832 г. за рассуждение «О духе в коем развивалась российская словесность, и о влиянии, какое на сие имели литературы иностранные» он получил в Петербургском университете степень магистра словесных наук и был утвержден адъюнктом русской словесности в Харьковском университете. В 1838 г., после защиты докторской диссертации «О красноречии в России до Ломоносова», получил звание профессора.62 Как преподаватель литературы Якимов отличался архаистическими пристрастиями и не пользовался успехом. По свидетельству одного из его слушателей, он «писал для актов торжественные речи, был убежден в необходимости писать такие же стихотворения и даже песнопения, требовал от студентов того же, хотел, чтобы они изучали Россиаду». Тем не менее он был «и образованнее и ученее современных ему профессоров словесников в других университетах».63
Обращение Якимова к Шекспиру отражало не только его личные интересы. Ректором Харьковского университета был И.Я. Кронеберг. первый отечественный шекспировед. Сослуживец Якимова, профессор древней словесности поляк А.О. Балицкий многие годы переводил Шекспира на польский язык.64 Якимов поставил своей целью перевести все пьесы Шекспира. «С настойчивым, упорным трудом Якимов изучал Шекспира и решился перевести его на русский язык с буквальной точностью, сохраняя все особенности слога и способа выражения подлинника, удерживая все частицы и т. п. Задача решительно невозможная», — писал об этом М.И. Сухомлинов.65
В 1833 г. в Петербурге вышли две пьесы Шекспира, переведенные Якимовым: «Король Лир» и «Венецианский купец!».66 В предисловии к первой Якимов, излагая свое переводческое кредо, указывал, что, «чуждый всяких притязаний на талант и литературную славу», он рассчитывает «пройти далекий путь, на коем каждый шаг должно покупать более терпением, нежели чем-либо другим». Касаясь принципов перевода, он писал: «...переводчик старается сберечь все, что есть в подлиннике, исключая то, что противно нашим приличиям... Где можно, там он переводит стих в стих и даже слово в слово; где нет, там, по необходимости, вместо одного стиха он ставит полтора и более... Самый размер стихов, повторения слов в известных местах, рифмы — удерживаются везде, где можно, и все высказывается так, как есть» («Король Лир», стр. III—VI).
Эти принципы, как мы видим, близки принципам Вронченко. Но Якимов глубоко заблуждался, когда полагал, что стихотворный перевод доступен человеку, чуждому всякого поэтического таланта. При всей точности и смысловой верности оригиналу стихи получились грубыми, корявыми, непоэтичными и неудобочитаемыми, способными скорее отвратить от Шекспира, чем привлечь к нему. Приведем два примера. Слова Шейлока к Антонио:
Вот вы пришли ко мне и говорите:
«Шейлок, нам нужны деньги», — говорите
Мне это вы — вы, бороду который
Оплевывал мою и как чужую
Толкал меня собаку за порог...
(«Венецианский купец», стр. 29)
Слова французского короля:
О боги, боги! чудно! Хлад презренья
Их произвел во мне огонь почтенья.
Без вена став моей, Лир, дочь твоя,
Есть королева Франции, моя!
За всех князей Бургундьи многоводной
Я не продам сей девы благородной(Корделии)
Скажи прости бесчувственным душам.
Здесь потеряв, найдешь ты лучше там.
(«Король Лир», стр. 20)
Необычные для русского языка шекспировские обороты не смущали Якимова, он переводил их слово в слово, не заботясь о том, будут ли понятны читателям выражения: «Он всякий человек — ни в каком человеке» («Венецианский купец», стр. 17); «Не ходи между драконом И лютостью его» («Король Аир», стр. 11) и т. п.
Встречаются в переводе и дикие буквализмы. Обычное в английском языке обращение к дворянину «right noble» переводится по-русски нелепым «прямо благородный» («Король Лир», стр. 16). Во имя буквальной точности переводчик употреблял невозможные в русском языке словосочетания:
Он вдруг свой меч, сготовленный, извлекши,
Бросается, дает мне рану в руку,
(«Король Лир», стр. 68)
пытался добиться краткости с помощью фраз-обрубков вроде: «Что новостей?» («Король Лир», стр. 25), допускал переносы из стиха в стих в любом месте предложения, как например:
Я Ваше
Величество прошу.
(«Король Лир», стр. 18)
Словом, стихи Якимова были совершенно неудобочитаемы, и этот порок перевода не могли спасти ни его точность, ни ученые примечания, ни ссылки на комментаторов Шекспира — Джонсона, Уорбертона, Мелона, Стивенса, Перси и др.
Известие о харьковском адъюнкте, переводящем Шекспира, вызвало интерес в литературных кругах Петербурга и Москвы. М.П. Погодин писал об этом Шевыреву 20 января 1832 г.,67 когда он познакомился с Якимовым, посетившим Москву проездом в Петербург. По поводу обширных планов переводчика Погодин заметил в дневнике: «Вот как зашевелилось».68 В «Молве» появилось сообщение: «Г. Екимов, адъюнкт Харьковского университета, перевел из Шекспира, совершенно близко к подлиннику, известного Лира»,69 а «Московский телеграф» предоставил свои страницы для первого действия трагедии.
Уезжая в Петербург, Якимов взял с собой рекомендательное письмо Погодина к А.В. Веневитинову. Последний вскоре писал Погодину: «Благодарю тебя за доставление знакомства с Якимовым. Я его познакомил с Одоевским, и на днях мы с ним вместе поедем к Пушкину».70 Так раскрывались двери перед переводчиком Шекспира. Недаром Якимов в предисловии к «Королю Лиру» выражал «свою искреннюю признательность благороднейшим соотечественникам-литераторам обеих столиц за то русское радушие, с коим они приняли переводчика и первые труды его» («Король Лир», стр. VI).
20 января 1833 г. Якимов читал перевод «Венецианского купца» в доме А.В. Никитенко.71 К сожалению, Никитенко не отметил в дневнике, какое впечатление на слушателей произвел перевод. Впрочем, возможно, что его недостатки скрадывались в чтении, тем более что Якимов владел искусством декламации и умел отчетливой и выразительной речью произвести приятное впечатление на слушателей.72 Сообщению о работе Якимова над Шекспиром Никитенко посвятил специальную заметку в «Северной пчеле».73
28 марта состоялось новое чтение «Венецианского купца» у В.Ф. Одоевского, на которое были приглашены Пушкин и Вяземский.74 Пушкин, однако, не приехал. «Я надеялся быть сегодня у Вашего сиятельства, — отвечал он Одоевскому, — и услышать трагедию г. Якимова — но невозможно. Мне назначили деловое свидание к 8 часам, и я жертвую Вами и Шекспиром подьяческим разговорам».75
Добрый прием, который встретил Якимов у литераторов Москвы и Петербурга, объяснялся, разумеется, не достоинствами его переводов, но стремлением литераторов поощрить молодого человека, замыслившего перевести всего Шекспира. Но когда переводы вышли в свет, уже никакие благие пожелания не могли спасти их от совершенно уничтожающей журнальной критики. Даже снисходительный рецензент «Московского телеграфа», утверждавший, что «самый плохой перевод не убьет писателя великого» и что Якимову следует довершить свое «полезное» предприятие, признавал, что шекспировские идеи «иногда облекаются у него (Якимова, — Ю.Л.) такою нескладною смесью слов, что трудно дознаться, о чем говорит действующее лицо».76 В Надеждинской «Молве» хотя и высказывалась похвала намерению Якимова, но подчеркивалось, что переводы его «не ознакомят русских читателей с британским поэтом, а возбудят в них отвращение к Шекспиру».77 А.В. Бурнашев в «Северной пчеле» писал, что переводы Якимова — «это только мысли и слова первенствующего трагика, не согретые его чувством, не освещенные его умом, обезображенные рукою неискусного копииста!»,78 и заключал на этом основании, что в России еще рано переводить Шекспира.
Мы не знаем, как воспринял Якимов эту критику. По-видимому, он не сразу отказался от своего намерения перевести всего Шекспира. Известно, по крайней мере, что он перевел еще «Отелло», «Цимбелина», «Сон в летнюю ночь» и «Что вам угодно».79 Но эти переводы не были изданы. В 40-е годы, когда Якимов под влиянием провинциального окружения духовно опустился, он уже не переводил.
Об изданных же переводах сохранилась печальная слава. Белинский писал, что Якимов только запутал вопрос, «как должно переводить Шекспира?»,80 а в письме к Боткину заметил, что «Король Лир» «опозорен на Руси переводом Якимова».81 По воспоминаниям Н.И. Костомарова, студенты Харьковского университета из якимовских переводов «приводили места в пример бессмыслицы».82
Таков был бесславный конец буквалистского перевода Шекспира.83
* * *
Переводы Вронченко и Якимова, так же как и неопубликованные переводы Кюхельбекера, а возможно, и П.В. Киреевского, независимо от их различий, относительных достоинств и недостатков, объединяла одна общая черта: все они предназначались для чтения. Это были ученые переводы, написанные тяжеловесным стихом, стремившиеся передать шекспировские пьесы во всей сложности их аллюзий и реминисценций, снабженные аппаратом примечаний и решительно непригодные для театрального исполнения.
В театрах же до середины 30-х годов шекспировские трагедии были представлены классическими переделками переделок Дюсиса; императорские театры, реакционные по своему духу, оставались последним оплотом классицизма. Однако и сюда, наконец, проникли новые веяния. И характерно, что инициатором продвижения на русскую сцену подлинного Шекспира явился актер петербургского Александрийского театра Я.Г. Брянский, который подготовил для своего бенефиса 1833 г. перевод трагедии «Жизнь и смерть Ричарда III» и исполнил в ней главную роль.84
Среди актеров своего времени Брянский выделялся образованностью и начитанностью. Много усилий прилагал он, чтобы повысить уровень русского драматического репертуара. В 1831 г., в его бенефис, впервые было представлено полностью «Горе от ума» (Брянский исполнял роль Фамусова). В 1832 г., также в свой бенефис, он поставил «Моцарта и Сальери» Пушкина.
Брянский не владел иностранными языками. «Ричарда III» он не переводил с английского непосредственно, а переложил на стихи подстрочный перевод трагедии, который сделал для него его друг, балетмейстер Дидло.85 На титульном листе единственного сохранившегося рукописного экземпляра трагедии (она не была издана) значится: «Жизнь и. смерть Ричарда III-го. Трагическая хроника в 5-ти действиях Вил. Шекспира. Переложенная в стихи из буквального перевода с английского Я. Брянским».86 В переводе были отступления от шекспировского текста, сокращения, замены, и тем не менее это был уже перевод, приспособленный для сцены, а не переделка, подобная бытовавшим в то время на театре. Для примера приводим начало открывающего трагедию монолога Ричарда:
Итак, зима раздора и войны
Превращена Йоркским солнцем в лето;
И тучи, тмившие наш светлый дом,
Погребены в пучине океана.
Венцы побед, избитые доспехи
Трофеями висят блестящих битв.
Все важные, военные тревоги
В веселые собранья превратились.
Походов грозный шум, сражений крик
Мелодией приятной заменен.
(л. 3)
Брянский не обладал значительным поэтическим даром; его стихи не поднимаются выше уровня посредственности; он не выдерживал размера, переходил с пятистопного ямба на шестистопный и обратно. Тем не менее у него был достаточный поэтический такт, чтобы добиться определенной гладкости стиха. Корявые, неудобопроизносимые строки у Брянского почти не встречаются. В этом, конечно, сказался опыт актера, ориентирующегося на декламацию.
Определенное влияние на Брянского оказал «Борис Годунов» Пушкина. Так, в монологе Ричарда из III действия
Брат Букнигам и мудрые граждане!
Когда усердно так хотите вы
Обременить меня всей тяжестью правленья,
С терпением я должен несть ярмо.
Но черный коль упрек или соблазн ужасный
Возляжет на меня — то принужденье ваше
Да оправданием пред светом будет мне.
Ах, знает бог и видите вы сами,
Как я далек был от желаний сих
(л. 77)
слышатся интонации монолога Бориса «Ты, отче патриарх, вы все, бояре...».
Брянский произвел ряд композиционных изменений и сокращений, вызванных, видимо, режиссерскими соображениями. Так, встреча Ричарда с будущими убийцами Кларенса перенесена из 3-й сцены I действия в конец 1-й сцены (после разговора с Гастингсом). Слиты в одну 1-я и 2-я (с леди Анной) сцены I действия и снят монолог Анны у гроба Генриха VI. Исключены сцены II действия: 1-я (предсмертная сцена короля Эдуарда) и 2-я (герцогини Йоркской с внуками), изменено деление на действия и т. д. По цензурным соображениям Брянский исключал духовных лиц или заменял их светскими (так, епископ Эллийский превращен в лорда Элли, III, 4), а также превратил епископов, сопровождающих Ричарда (III, 7), в аббатов, поскольку последний сан отсутствовал в православной церкви.87 Купюры производились и в переведенном тексте. В сцене Кларенса в Тоуэре (I, 4 в оригинале) убийство переносилось за занавес и т. п.
Большой интерес представляют изменения, которые Брянский внес в сцену горожан (II, 3 в оригинале, в переводе II, 1). В отличие от Шекспира Брянский заставил горожан говорить не стихами, а прозой и вложил в уста одного из них иронические суждения о Ричарде, отсутствующие в английском оригинале, вроде следующих:
- «2-й. И полно, да он (Ричард, — Ю.Л.) храбр, умен, а ты бы послушал, как герцог Букингам его хвалит.
1-й. А он похваливает герцога Букингэма, а обоих хвалят все те, которым терять нечего, а выиграть есть что.
2-й. Однако ж я знаю многих в Лондоне...
1-й. Охотников в мутной воде рыбу ловить, — а Ричарду безделица возмутить не только эту Темзу, да и все море»
(лл. 45 об. — 46).
Сцена эта расширена, горожане присутствуют при приезде принца Уэльского (этот приезд перенесен из III действия во II):
- «2-й. Пойдем и мы.
1-й. Куда, мы и здесь увидим свидание дядюшки с племянником — обласкает он его... ох!.. ох!»
(лл. 45 об. — 47).
Несомненно, что написание подобной сцены стало возможным только после знакомства с народными сценами в «Борисе Годунове».
Хотя Брянский и допускал в переводе значительные изменения, все же его «Ричард III» на фоне дюсисовских переделок имел основание считаться «подлинным» Шекспиром. И таково было мнение публики. «Перевод, кроме некоторых необходимых выпущений, полон и верен, а в стихах вообще отлично хорошо переданы великие идеи Шекспира», — писала «Северная пчела».88 А Никитенко отмечал в дневнике 30 января 1833 г.: «...давали "Ричарда" в таком или почти в таком виде, в каком вышел он из творческой головы Шекспира».89
Следующим переводом Шекспира, предназначенным для сцены, был «Венецианский купец» — весьма слабая поделка, не имевшая успеха.90 Переводчик пьесы был обозначен «А.П. С...н», по-видимому, это был актер А.П. Славин, который впоследствии составил книжку «Жизнь Вильяма Шекспира». Перевод был сделан с немецкого перевода Шлегеля.91
Несравненно большее значение имел третий театральный перевод 30-х годов — «Отелло» Ивана Ивановича Панаева (1812—1862), будущего известного писателя и редактора «Современника», а в то время еще начинающего литератора. Впоследствии в своих воспоминаниях Панаев изложил историю создания этого перевода. Увлекшись в 30-е годы Шекспиром благодаря «Гамлету» в переводе Вронченко, он захотел познакомиться с другими произведениями великого драматурга и сделал это по французским переводам, так как не владел английским языком. «"Отелло", — вспоминал Панаев, — произвел на меня такое же впечатление, как некогда "Notre Dame de Paris" Гюго. Я несколько недель сряду только и бредил Отелло. Моему воображению представлялось, каковы должны быть Каратыгин в Отелло и Брянский в Яго. Желание увидеть эту драму на русской сцене преследовало меня и мучило».92
Перевод был осуществлен Панаевым по французскому переводу Летурнера—Гизо, но затем выправлен его родственником, будущим ориенталистом М.А. Тамазовым, знавшим, по словам Панаева, «довольно хорошо английский язык».93 Перевод был прозаическим. В 1836 г. он был издан отдельной книжкой.94
В целом перевод был верен и написан хорошим литературным языком, как можно судить хотя бы по началу монолога Отелло в сенате (I, 3):
«Могущественные и достойные синьоры! благородные и великодушные повелители мои! Я похитил дочь этого старца из его дома: это совершенная правда; правда и то, что я женился на ней. Но в этом заключается вся моя вина, не более. Мои слова грубы; я не умею говорить красноречиво в мирное время, потому что с семи лет, с тех пор, как руки эти стали наливаться силою, их любимое занятие, — кроме последних девяти лун, — было под военными шатрами и на поле битв» (стр. 222—223).
Хотя в общем смысл передается верно, перевод все же пестрит мелкими неточностями. Например, в приведенном отрывке: в первом обращении пропущено grave — «важные»; approved (испытанные) переводится — «великодушные»; не совсем точно переданы слова Отелло о своих руках, означающие буквально: «потому что с тех пор, как руки мои имели силу семилетнего возраста» («for since these arms of mine had seven years’ pith»; I, 3, 83), и т. п. Но в целом смысл не искажается, хотя и пропадают некоторые оттенки.
Переданные прозой стихи звучали подчас неестественно, тяжело и аффектированно. «О, ты дикий цветок! Ты так хороша! Твое благоухание так сладко, что чувства упоеваются тобою! Лучше бы тебе никогда не родиться!» (стр. 156). Встречаются корявые выражения: «Однако она должна умереть, а иначе ведь она еще будет изменять другим» (стр. 188), ошибки в русском языке и т. д.
Перевод был снабжен «Примечаниями переводчика», которые в действительности написал Гамазов. Здесь были ссылки на комментаторов, приводились выражения оригинала и т. п., чтобы создать у читателей впечатление, будто перевод сделан с английского. И действительно, некоторые рецензенты поверили, что «переводчик изучал переводимое сочинение, советовался с комментариями и глоссариями, старался проникнуть настоящий смысл каждого выражения».95 Зато в «Северной пчеле» появилась очень придирчивая заметка, автор которой, скрывшийся за подписью «Юр. Сервент»,96 подобрав неверные и неточные выражения перевода, доказывал, что он сделан не с оригинала.97
В отличие от предшествовавших переводов «Отелло» в переводе Панаева удержался на сцене, вытеснив переделку Дюсиса—Вельяминова. Но решающее значение для утверждения Шекспира на русской сцене имел перевод Н.А. Полевого «Гамлет».
* * *
О необходимости дать на сцене настоящего «Гамлета» «Московский телеграф» писал еще в конце 20-х годов. В.А. Ушаков в обозрении «Русский театр» указывал, что «Гамлет» Висковатова представляет собою-«варварское искажение бессмертного творения Шекспира», и выражал пожелание, чтобы на сцену попал перевод Вронченко, «совершенно согласный с подлинником, являющий нам несчастного принца в том занимательном виде, который дал ему бессмертный Шекспир».98 Однако тяжеловесный перевод Вронченко никак не мог исполняться на сцене.
Н.А. Полевой, по свидетельству его брата Ксенофонта, еще во время издания «Московского телеграфа» «имел мысль перевести одну из драм Шекспира и поставить ее на сцену, в полном убеждении, что это воскресит и нашу публику, и актеров, которые чувствовали неудовлетворительность современного репертуара». Он хотел на практике опровергнуть распространенное мнение, будто «сочинения Шекспира писаны не для нашего времени, не годятся для сцены и не могут иметь успеха перед нашею публикою».99 Но приняться за «Гамлета» он сумел только в 1835 г. В 1836 г. перевод был окончен, а 22 января 1837 г. в Московском театре состоялась премьера трагедии с Мочаловым в заглавной роли. Почти одновременно «Гамлет» был издан отдельной книгой.100
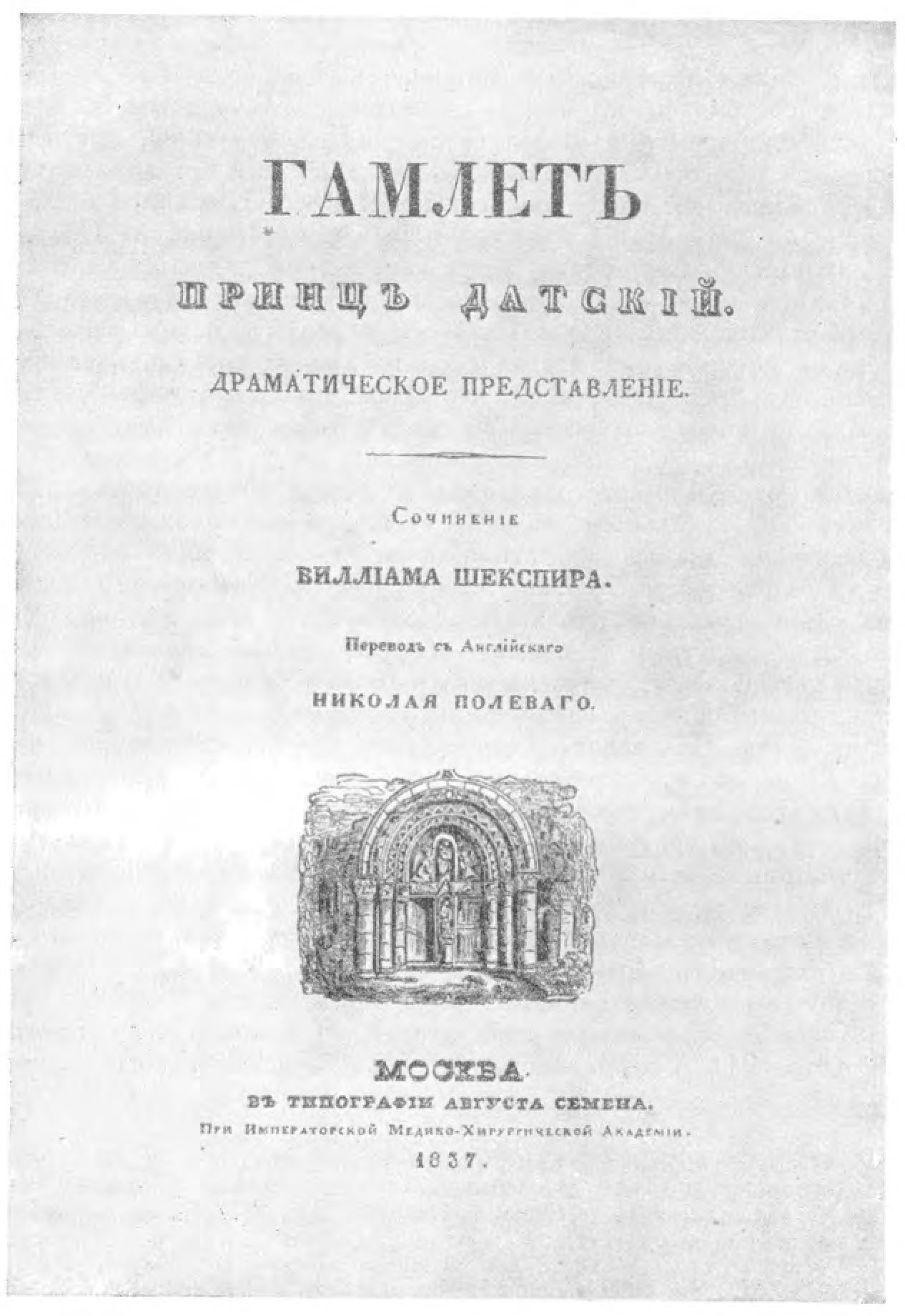
«Гамлет, принц датский». Перевод Н.А. Полевого. Москва. 1837. Титульный лист
Перевод Полевого был весьма вольным даже для его времени (хотя и не являлся переделкой вроде дюсисовской). Пьеса Шекспира была сокращена почти на четверть. Соответственно своей концепции Полевой несколько изменил образы действующих лиц, и прежде всего Гамлета.
Сохранились воспоминания режиссера Московского театра С.П. Соловьева о вступительном слове Полевого перед чтением «Гамлета» актерам театра, в котором он излагал свой взгляд на трагедию, связывая ее с современностью. Он утверждал, что Шекспир был «пророком, прозревшим на 300 лет вперед... Гамлет по своему миросозерцанию и нравственному настроению... человек нашего времени, дитя XIX века». Опираясь на суждение Гете о Гамлете и развивая его до крайнего предела, Полевой считал, что «краеугольным камнем этой драмы положена Шекспиром общечеловеческая мысль, понятная всем и знакомая каждому, эта мысль — слабость воли против долга, она олицетворяется личностью Гамлета». Вся трагедия, согласно Полевому, — это «борьба Гамлета с тенью, или, другими словами, — борьба слабой человеческой воли с грозным, неумолимым долгом; но это — борьба Иакова с ангелом, и Гамлет должен изнемочь, сдавленный таким могучим борцом».101
Представление Полевого о Гамлете как слабом, безвольном человеке сказалось на переводе. Сознательно или бессознательно переводчик в одних случаях усиливал соответствующие реплики героя, в других переосмыслял их, в третьих ослаблял моменты, противоречившие его взгляду. Например, в монологе после встречи с актерами шекспировский Гамлет в порыве самобичевания называет себя: «негодяй и низкий раб», «тупой, из нечистого металла сплавленный подлец» («a rogue and peasant slave»; «a dull and muddy-melted raskal»; II, 2, 584, 602). Полевой же заменяет эти выражения словами, характеризующими слабость, ничтожность: «Какое я ничтожное созданье»; «Ничтожный я, презренный человек» (стр. 91). Содержащееся в речах шекспировского героя самоуничижение у Полевого усилено. Он добавляет слова, отсутствующие в подлиннике: «О Гамлет, Гамлет! Позор и стыд тебе!» (стр. 92).
Эпитет «ничтожный» становится как бы лейтмотивом речей Гамлета, основной характеристикой окружающего его мира. В первом же монологе он говорит:
Как гнусны, бесполезны, как ничтожны
Деянья человека на земле!
Король — «повелитель ничтожный». Мать — воплощение женской слабости: «О, женщины! ничтожество вам имя!» (стр. 23). (У Шекспира такого повторения нет; ср. I, 2, 133—134, 140, 146).
Все места трагедии, которые свидетельствуют о бесстрашии Гамлета в минуту опасности, в переводе изменены. Грозные слова принца, обращенные к бросившемуся на него Лаэрту, которыми он предупреждает: «Хотя я и не подвержен вспышкам внезапного гнева, однако есть во мне нечто опасное, чего пусть остережется твое благоразумие. Прочь руки!» (V, I, 283—285), заменены вялым, просительным:
Тише, тише!
Зачем за горло схватывать меня?
Бороться не тебе со мной, приятель!
(Стр. 189)
Совершенно изменено письмо Гамлета к Горацио; весь рассказ о мужественном его поведении при встрече с пиратами (IV, 6, 15—21) подменяется в нем туманной фразой: «Странное обстоятельство сделало то, что я не поехал в Англию» (стр. 167). А в сцене Гамлета и Горацио повествование Гамлета о своей решимости на корабле, о смелых и стремительных действиях, благодаря которым он избежал ловушки, расставленной ему Клавдием, и отомстил Розенкранцу и Гильденстерну (V, 2, 1 — 62), это повествование в переводе скомкано, сокращено вчетверо, и успех Гамлета объясняется не смелостью и находчивостью, а притворством — уловкой слабости:
Безумцем притворяясь, было мне легко
Похитить грамоты, их прочитать, подделать.
(Стр. 190)
В отличие от шекспировского героя, философски мудрого, проницательного и остроумного, Гамлет Полевого — мятущийся, раздраженный, человек с больной совестью. Там, где у Шекспира он просто выражает сожаление, что забылся с Лаэртом (V, 2, 75—76), герой Полевого терзается: «Но совестью теперь тревожусь я за оскорбление Лаэрта» (стр. 191—192). В разговоре с Гильденстерном о флейте английский Гамлет играет словами (см. III, 2, 394—396), в переводе острословие превратилось в вопль измученной души: «Считай меня чем тебе угодно — ты можешь мучить меня, но не играть мною!» (стр. 123).
Гамлет Полевого озлоблен на окружающих его людей. Если шекспировский Гамлет говорил лишь, что человек его не радует, не восхищает («man delights not me»; II, 2, 329), то в русском переводе он заявлял: «Я не люблю человека» (стр. 80). Когда во время представления «Мышеловки» Офелия спрашивала о содержании немой сцены, Гамлет Шекспира пояснял: «Черт возьми, это крадущееся преступление, иными словами — злодеяние» (III, 2, 148—149). У Полевого же вместо объяснения он клял род людской: «Чего от людей ждать! Какая-нибудь мерзость!» (стр. 109).102
Но его Гамлет не только презирает людей, он скорбит об их участи и страшится за них. Острой болью проникнуты его обращенные к матери слова, которые целиком принадлежат переводчику: «Ты погубила веру в душу человека» (стр. 134). «Страшно, за человека страшно мне!..» (стр. 135) — кричит в ужасе герой Полевого. И эти слова, не имевшие никакого соответствия в оригинале, брошенные с театральных подмостков, нашли отклик в сердцах тысяч зрителей, ибо в них воплотился ужас перед жизнью, скорбь об унижении человеческого достоинства, охватившие русское общество в эпоху николаевского безвременья.
«Первые годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа. Людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, которая не имела бы близких родственников в числе сосланных, и почти ни одна не осмеливалась надеть траур или выказать свою скорбь. Когда же отворачивались от этого печального зрелища холопства, когда погружались в размышления, чтобы найти какое-либо указание или надежду, то сталкивались с ужасной мыслью, леденившей сердце. Невозможны были никакие иллюзии: народ остался безучастным зрителем 14 декабря».103
Сама эпоха, таким образом, сделала русское образованное общество особенно восприимчивым к страданиям датского принца, который скорбел о погибшем отце-герое среди двора, угодливо пресмыкающегося перед торжествующим победу узурпатором. И в мучительных раздумьях и мрачном отчаянии Гамлета это общество видело отражение своих нравственных страданий. Это чувствовал и понимал Полевой, недаром он говорил о Гамлете: «...его страдания нам понятны; они болезненно отзываются в нашей душе, как страдания близкого нам родного человека; мы плачем вместе с Гамлетом и плачем о самих себе».104
Переводя «Гамлета», Полевой по-своему осмыслял и изменял как образ принца, так и трагедию в целом. Делая основной чертой Гамлета слабость, бессилие воли, отсутствие решимости, переводчик уподоблял его героям своего времени. «...Мы любим Гамлета, как родного брата, — говорил Полевой, — он мил нам даже и своими слабостями, потому что его слабости суть слабости наши, он чувствует нашим сердцем и думает нашею головой».105 Гамлет у Полевого становился «лишним человеком», разъедаемым рефлексией, родоначальником целой вереницы русских Гамлетов, которых порождали периоды политической реакции в стране. И в этом заключалась главная причина успеха перевода Полевого, секрет его сценической долговечности. Большинство русских читателей и зрителей XIX в. иначе и не представляло себе образ датского принца, как в интерпретации Полевого.
Шекспировское обличение мировой, вселенской несправедливости приобретало в переводе подчас более узкий социальный характер.
И кто бы перенес обиды, злобу света,
Тиранов гордость, сильных оскорбленья...
(Стр. 97)
восклицает Гамлет в монологе «Быть иль не быть», хотя у Шекспира не «свет», а «время» («time»; III, 1, 70) и не «оскорбления сильных», а «презрение гордеца» («proud man’s contumely»; III, 1, 71), т. e. противоречие раскрывается не в социальной, а в этической плоскости. Судьба, названная в оригинале «яростной», «неистовой» («outrageous»; III, 1, 58), в переводе стала «оскорбительной» (стр. 97), т. е. унижающей человеческое достоинство, и т. д.
Вообще социальные мотивы в переводе усилены. Фраза Гамлета: «Наше время стало до того острым, что носок башмака крестьянина приблизился к пятке придворного и натирает на ней ссадину» (V, 1, 150—152) — передана Полевым проще и резче: «...свет поумнел так, что теперь мужик ступает на ногу дворянину и извиняться не думает!» (стр. 183), причем замена «придворного» «дворянином» расширяла ее смысл. Вкладывает Полевой в уста Гамлета отсутствующую в подлиннике фразу: «Надо бы философии постараться открыть: отчего маленькие человечки становятся великими, когда великие переводятся?» (стр. 81).
Точнее переводилось то, что соответствовало мыслям Полевого, например слова Гамлета о «Дании — тюрьме» (II, 2), которые русский читатель или зритель естественно переносил на николаевскую Россию. Вообще же упоминания Дании в переводе значительно сокращены или заменены словом «отечество» для того, видимо, чтобы усилить эту связь с российской действительностью.
Полевой сузил трагические противоречия, жертвой которых падает Гамлет. Герой Шекспира за злодеянием, жертвой которого пал его отец, видел нечто большее, чем простое убийство, — мир, потерявший свою основу, вывихнутый век. Сильный духом, он, однако, чувствует, что восстановить мировой порядок ему не под силу. У Полевого же он и не пытается решать мировые задачи и скорбит в бессильной тоске: «Преступленье проклятое! зачем рожден я наказать тебя!» (стр. 54).
Несомненно, что в образе Гамлета, бессильного и бичующего свое бессилие, Полевой в какой-то мере отразил свою собственную духовную драму человека, сломленного царским самодержавием, который, вызванный к шефу жандармов, «в пятый день по приезде в Петербург сделался верноподданным».106 Полевой мог унизиться до сотрудничества с Булгариным, но он сознавал глубину своего падения, и свою скорбь, горечь и злость он изливал в речах датского принца. И это отличало его от Булгарина.107 Он даже словно забывал, что Гамлет — принц. Розенкранц и Гильденстерн обращаются у него к Гамлету совершенно недопустимо: «почтеннейший», «любезнейший» (стр. 75), словно это какой-то купчишка или разночинец, и вообще разговаривают с ним чуть ли не грубо.108 Вряд ли переводчик сделал это сознательно, но такая замена показывает, что в его представлении Гамлет временами переставал быть принцем и сближался с героями повестей Полевого — духовно одаренными разночинцами, романтически противопоставленными пошлому и бездушному обществу (Аркадий в «Живописце», 1833; Вильгельм Рейхенбах в «Аббаддоне», 1834).
Видоизменялись и другие герои трагедии. Так, Лаэрт из антипода Гамлета превращен в родственный ему образ. Это — разочарованный юноша, который говорит сестре: «Свет так бессмыслен, люди так коварны...» (стр. 34) — слова, не имеющие соответствия в подлиннике.. Лаэрт Полевого облагорожен по сравнению с оригиналом. Если свирепый шекспировский герой, пылая жаждой мести, готов даже в церкви «перерезать глотку» своему врагу (IV, 7, 126), то в переводе он говорит: «Жребий пусть решит, кому из нас погибнуть в битве» (стр. 170). Характерно, что тайная уловка с отравленным мечом в переводе придумана не Лаэртом (как в оригинале), а королем; Лаэрт же, услышав о ней, в ужасе восклицает: «Убийство тайное!» (стр. 172) и соглашается на это лишь потому, что он «слепое орудье» в руках короля, и т. д. Поскольку Лаэрт был в переводе «гамлетизирован», то тем самым разрушалось и содержащееся в трагедии тройственное противопоставление: Гамлет—Лаэрт—Фортинбрас. А потому роль Фортинбраса теряла свой смысл и была в переводе почти сведена на нет. В IV действии Фортинбрас был заменен послом. Являлся он только в конце трагедии, причем его роль была сокращена до двух реплик в пять строк.
«Осовременивая» трагедию, Полевой исказил и сцены с призраком. Он вводил в них оговорки, разрушающие целость верования в привидения, пытался дать рациональные толкования явлению призрака, уничтожил слова тени в сцене Гамлета с матерью и т. д.109 Словом, он пытался как-то примирить суеверия эпохи Шекспира с рационалистическими представлениями XIX в., а это приводило его к несообразностям.
Полевой вообще считал, что не следует особенно стремиться к точности, и называл, например, перевод «Макбета», сделанный Вронченко, «неверным за его излишнюю верность подлиннику».110 В переводе «Гамлета» имеется много сокращений, большая часть монологов урезана. Стремясь к доходчивости, Полевой упрощал сложные образы, уничтожал мифологические реминисценции, снимал детали, нуждающиеся в комментарии. Основная его цель была создать естественный разговорный текст, который сделал бы трагедию пригодной для сцены, давал бы возможность играть живых людей, понятных зрителям. И он успешно достигал этого. Монологи Гамлета принадлежат к наибольшим его удачам. Вот, к примеру, монолог, обращенный к матери (III, 4):
А вот они, вот два портрета — посмотри:
Какое здесь величие, краса и сила,
И мужество и ум — таков орел,
Когда с вершины гор полет свой к небу
Направит — совершенство божьего созданья —
Он был твой муж! — Но посмотри еще —
Ты видишь ли траву гнилую, зелье,
Сгубившее великого, — взгляни, гляди —
Или слепая ты была, когда
В болото смрадное разврата пала?
Говори: слепая ты была?
Не поминай мне о любви: в твои лета
Любовь уму послушною бывает!
Где ж был твой ум? Где был рассудок?
Какой же адский демон овладел
Тогда умом твоим и чувством — зреньем просто?
Стыд женщины, супруги, матери забыт...
Когда и старость падает так страшно,
Что ж юности осталось?
(Стр. 134—135)
«...Сколько огня, силы, энергии, сжатости и какая отрывистость, простота!» — восклицал по поводу этого монолога Белинский. «...Не тот ли это язык, который вы ежедневно слышите около себя и которым вы ежедневно сами говорите? А между тем это язык высокой поэзии».111 Но Полевой почти вдвое сократил шекспировский монолог (19 строк вместо 36), изъял мифологические реминисценции — сравнения с Гиперионом, Юпитером, Марсом и Меркурием, частично упростил, частично выбросил сложные обороты, метафоры, трудно понимаемые места. И так он действовал на протяжении всего перевода.
Иногда же Полевой, напротив, распространял лаконичное шекспировское выражение, вводил свои пояснения, украшения и риторические обороты. Допускал он вольности и в размере трагедии: его строки колебались от четырех до восьми стоп, иногда среди ямбов попадались хореи. Но при этом переводчик добивался естественной живости сценической речи. Имея в виду облегчить театральную постановку, Полевой освободил трагедию от нескольких второстепенных действующих лиц (вроде моряков, приносящих письмо от Гамлета), свел 20 сцен к 11 и 9—10 перемен — к 5. Были в переводе и просто ошибки, вызванные спешкой, тем, что Полевой занимался им урывками, между другими делами.
И тем не менее, несмотря на все эти изменения (а отчасти даже и благодаря им), «Гамлет» в переводе Полевого стал важнейшей вехой в истории восприятия Шекспира в России. Полевой уменьшил философскую глубину трагедии, романтизировал и снизил образ датского принца, опростил язык и т. д., но это все же был, хотя и искаженный и ослабленный, но шекспировский «Гамлет», а не переделка вроде сумароковской или висковатовской. Зато, упростив шекспировскую трагедию, Полевой сделал ее доходчивой, понятной не только немногим любителям, но широким кругам театральной публики и этим решительно содействовал утверждению Шекспира в русском театральном репертуаре. Белинский: говоря об «энтузиазме, с каким был принят "Гамлет" не только в Петербурге и Москве, но и в отдаленных провинциях», указывал: «...этот повсеместный успех "Гамлета" нельзя не приписать переделке г. Полевого: он сделал ее языком легким и разговорным. Правда, он свел "Гамлета" с его шекспировского пьедестала, но этим самым приблизил его к смыслу большинства нашей публики, на которую "Гамлет" во всей шекспировской полноте не мог бы произвести впечатления столь сильного».112
Ни одно произведение Шекспира не имело в XIX в. такого успеха на русской сцене, как «Гамлет» в переводе Полевого. Д.В. Аверкиев, сам переводивший эту трагедию, писал в конце века, что попытки вытеснить перевод Полевого со сцены «никогда не увенчивались полным и прочным успехом; театр через более или менее значительный промежуток снова возвращался к Полевому».113 В этом переводе трагедия продолжала ставиться и в XX в.114 Кроме того, он неоднократно переиздавался: в XIX в. известно 11 переизданий, в XX в. — 10. Последнее вышло в 1921 г. в Берлине в «Русском универсальном издательстве».
А.А. Григорьев писал, что благодаря переводу Полевого «Гамлет разошелся чуть что не на пословицы».115 Действительно, такие выражения, как «башмаков она еще не износила», «о, женщины! ничтожество вам имя!», «как сорок тысяч братьев», «за человека страшно» и многие другие, прочно вошли в русскую фразеологию. Цитаты из перевода Полевого встречаются во многих произведениях XIX в. Благодаря ему самое имя датского принца стало в России нарицательным,116 а трагедия, прочно войдя в репертуар русских театров, тем самым явилась существенным фактом русской культурной жизни.117
Перевод Полевого при своем первом появлении на сцене и в печати сразу же вызвал горячие споры. Само собой напрашивалось сопоставление его с переводом Вронченко. Осенью 1837 г. в «Московском наблюдателе» была напечатана сценка, изображающая молодых людей, спорящих о «Гамлете» «в густом табачном дыму».118 Спор ведется о том, нужен ли точный перевод. Высказывается мнение, что «Шекспира надобно переводить вдвойне» — для чтения и для театра. В последнем: случае требуется, «чтоб Гамлет говорил языком для всех знакомым», ибо «во время представления некогда делать комментарий». Сценка завершается гулом голосов, в котором различимы отдельные слова: «— Вздор — чудо — чепуха — превосходно — переделка — перевод — Полевой — Шекспир».
Восторженный отзыв появился в «Библиотеке для чтения».119 «...Ни в одном случае перо Н.А. Полевого не являлось с большим блеском, с большею властию над русским языком, как в этом переводе "Гамлета"... — писал рецензент. — Нельзя лучше схватить духа подлинника!».
Иной была оценка перевода в цитировавшейся уже выше статье П.А. Плетнева «Шекспир». «В новом переводе "Гамлета", — писал критик, — словосочинение легче, периоды округленнее и фразы яснее, нежели в старом. Видно, что работой занимался писатель, который привык управляться с языком». Но Плетнев обвинял Полевого в отсутствии у него чувства поэзии, в том, что он «передает один голый смысл подлинника и равнодушно пропускает все, что составляло краски, живость, полноту картины, всю индивидуальность Шекспира».120 Подробный разбор перевода Полевого и сопоставление его с переводом Вронченко опубликовал весной 1838 г. Белинский.121 Эта статья служила продолжением печатавшейся ранее серии статей: «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». Белинский оценил перевод Полевого очень высоко, хотя и отмечал в нем «много недостатков и недостатков важных» — ослабление существенных черт подлинника, необоснованные сокращения, упрощения и т. п. Тем не менее критик указывал: «Перевод г. Полевого — прекрасный, поэтический перевод; а это уже большая похвала для него и большое право с его стороны на благодарность публики... Его перевод имел полный успех, дал Мочалову возможность выказать всю силу своего гигантского дарования, утвердил "Гамлета" на русской сцене. Вот в чем его заслуга... и литературе, и сцене, и делу общественного образования». «В переводе г. Полевого везде видна свобода, видно, что он старался передать дух, а не букву». И в заключение статьи: «...перевод "Гамлета" есть одна из самых блестящих заслуг г. Полевого русской литературе».122
Высокая оценка, которую Белинский дал переводу, вызвала возражения. О своем несогласии с ним заявил Панаев, писавший ему 11 октября 1838 г.: «Расточили вы сему переводу много похвал, а он, по-моему, право, не стоит этого. Уже одно то, что Н.А. исказил очаровательную Офелию — и сделал из нее русскую девку в сарафане, нельзя простить ему, воля ваша! У Полевого шекспировская Офелия поет на балалайке:
"Радость-душечка пропала
Как мила друга не стало...",
только недостает: Ай-люли! ай-люли etc...».123
Еще раньше, 20 августа, И.Я. Кронеберг писал Белинскому, что находит перевод Полевого «чрезвычайно своевольным; везде только суррогат Шекспировых мыслей». Кронеберг считал, что «в предостережение тех, кои, обольстясь славою сего перевода, вздумали бы приступить к подобному переводу других пиес Шекспира, следовало бы показать все недостатки его и погрешности: как он нарушил верование в привидения, как он не понял характера Гамлета, Клавдия, Фортинбраса, Розенкранца и Гильденштерна, позволил себе сокращения речей, пропуски, изменения, слитие явлений и сцен и как он неудачен и в частностях. Шекспира нельзя переводить à livre ouvert; его должно долго и подробно изучать; надобно уметь читать не только то, что в строках, но и то, что за ними и между их писано».124 Развитие положений, изложенных в цитированном письме, и составило содержание специальной статьи И.Я. Кронеберга, которая была опубликована при содействии Белинского уже после смерти автора.125 Это была критика перевода с точки зрения ученого филолога.
Вскоре против Полевого выступил и сын И.Я. Кронеберга — А.И. Кронеберг. Прочитав в «Репертуаре русской сцены» обещание Полевого напечатать антикритику на статью его отца, А.И. Кронеберг, сам занимавшийся переводом пьес Шекспира, в частности «Гамлета», не дожидаясь антикритики, написал пародийную статью «Гамлет, исправленный г-ном Полевым»,126 где разбирал отступления от оригинала в переводе первого акта трагедии, иронически доказывая, «что перевод г. Полевого не только хорош, но что он стоит далеко выше своего подлинника».127 Фактически эта статья не вносила ничего нового, кроме обвинения, что перевод делался с французского перевода Летурнера—Гизо, да еще издевательского тона, который вызвал возмущение А.В. Кольцова.128
В 1840 г. коренным образом меняется мнение Белинского о переводе: критик буквально не пропускает случая, чтобы не высказать своего отрицательного суждения о нем. Уже в рецензии на «Очерки русской литературы» Полевого (январь 1840 г.) Белинский назвал перевод «Гамлета» «искаженным и облизанным», «дюсисовской переделкой».129 В том же году в связи с перепечаткой «Гамлета» Полевого в «Репертуаре русского театра» (1840, № 3) Белинский, опираясь на критические суждения И.Я. Кронеберга и даже использовав приведенное выше замечание Панаева, назвал перевод «романтическим водевилем»130 и поставил в один ряд с переделками Дюсиса, Сумарокова и Висковатова. «Русским водевилем», «переделанным с французского»,131 назвал критик перевод Полевого в обозрении «Александринский театр» (1840).
Белинский в это время стремился дискредитировать любой ценой Полевого, который окончательно перешел в лагерь Булгарина и Греча. Критик писал В.П. Боткину 30 декабря 1840 г.: «Я могу простить ему (Полевому, — Ю.Л.) отсутствие эстетического чувства... могу простить искажение "Гамлета"... грубое непонимание Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинского... но его дружба с подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, от которых гибнет наша литература, страждут истинные таланты и лишено силы все благородное и честное, — нет, брат, если я встречусь с Полевым на том свете — и там отворочусь от него, если только не наплюю ему в рожу».132 Белинский действительно изменил свое мнение о переводе Полевого, но ожесточенность его нападок объяснялась, как мы видим, иными причинами, не имевшими прямого отношения к переводу.
В защиту Полевого выступил В.С. Межевич — литератор, прежде близкий Белинскому, но в 1840 г. ставший на сторону Булгарина и Греча. В статье «Шекспир, русские переводчики и русская критика»133 он дал беглый обзор русских переводов Шекспира до 1837 г., старательно принижая их, чтобы на их фоне возвысить перевод Полевого. Сопоставив отзывы Белинского на первое издание перевода и на второе, Межевич обвинил критика в непоследовательности, в том, что он противоречит самому себе и «поет с голоса покойного харьковского профессора И.Я. Кронеберга». На эти обвинения Белинский ответил с большим достоинством. Он писал, что «никогда не побоится» сознаться, «что он, как человек, может ошибаться и может увлекаться первым впечатлением, а, что всего важнее, позволяет себе каждый день учиться, т. е. подвигаться вперед, вследствие чего взгляд его на один и тот же предмет со временем может совершенно изменяться».134
В дальнейшем Белинский настойчиво во многих статьях повторял, что Полевой своей переделкой «Гамлета» превратил трагедию Шекспира в романтическую мелодраму и это сделало ее доступной пониманию толпы и стало причиной успеха «Гамлета» на сцене и в печати.135
Критика «Гамлета» в переводе Полевого продолжалась в связи с переизданиями до конца XIX в.136 Однако каковы бы ни были недостатки этого перевода, устанавливая его историческое значение, следует признать справедливыми слова Белинского, сказанные им еще в 1838 г.: «Утвердить в России славу имени Шекспира, утвердить и распространить ее не в одном литературном кругу, но во всем читающем и посещающем театр обществе; опровергнуть ложную мысль, что Шекспир не существует для новейшей сцены, и доказать, напротив, что он-то преимущественно и существует для нее, — согласитесь, что это заслуга, и заслуга великая!».137
Перед самой смертью Полевой обратился еще к одному произведению Шекспира. В феврале 1846 г. за его подписью был опубликован «Тимон Афинянин» с подзаголовком «Вольные очерки из драматической повести Шекспира (Timon of Athens)».138 Этот весьма вольный перевод охватывает примерно три с половиной действия оригинальной трагедии. Таким: образом, сцены, имеющие наибольшее философское значение (диалог Тимона и Апеманта, сцены Тимона, поэта и живописца, Тимона и сенаторов), остались за пределами «очерков». Впрочем, возможно, что предсмертная болезнь помешала Полевому довести перевод до конца.139
Выбор пьесы был, видимо, не случайным. Полевого в трагедии Тимона могло привлечь какое-то сходство с его жизненной катастрофой. Им тоже овладели в конце мизантропические настроения, как можно судить по его предсмертным распоряжениям.140 И, уходя из жизни, он посылал устами шекспировского героя проклятия городу, погубившему его, свидетелю его падения и позора:
Вот вам привет последний мой,
О стены города, где волчье стадо
Кусается, грызется, — провалитесь, стены,
И пусть падет на вас, Афины, гнев богов!141
* * *
Успех «Гамлета» в переводе Полевого, утвердивший Шекспира на русской сцене, явился новым стимулом для переводчиков. Практика перевода, приспособленного для сцены, стала считаться как бы узаконенной. На титульном листе изданной в 1838 г. комедии «Виндсорские кумушки» было специально обозначено: «Комедия... переведенная для сцены». В предисловии анонимный переводчик142 пространно и путано излагал ставшие уже общим местом определения двух видов перевода — буквального и вольного (к последним он относил переделки). Кроме того, он определял третий вид — переводы для сцены, в которых «Шекспир ожил неискаженный, хотя в каждой из пиэс сделаны уступки современности и настоящему состоянию театра. Уступки только, но не переделки, приноровление, не изменение идей автора».143 Эти уступки — устранение мест, нуждающихся в комментариях, непристойностей, особо сложной игры слов, а также уменьшение числа сцен.
Перевод был сделан не с оригинала, а с французского перевода Гизо (сам переводчик заявлял, что «комедия переведена с двух ученых переводов Гизо и Шлегеля, сравнена с оригиналом и комментариями»),144 в прозе, довольно легким языком. Только сцена Фальстафа с миссис Форд и Педж и мнимыми феями (V, 5; в переводе V, 2) независимо от оригинала, где сочетаются проза и стихи, переведена водевильными стихами вроде следующих (слова Фальстафа):
Уж полночь стукнуло на башне.
Ух! настоящий час страстей!
Юпитер! Сам ты строил шашни!
Будь верной помощью моей!
Я взял в пример твои уловки,
Аллегорический прием:
Ты сам для миленькой коровки
Надел рога и был быком.
В то же время перевод изобиловал грубейшими смысловыми ошибками (например, французское cretin, «кретин» было переведено «христианин», a salope, «неряха» — «салопница») и нарушениями норм грамматики. В сущности это была неудачная попытка спекулировать на входившем в моду имени Шекспира, и большинство критиков осудило ее.
Белинский посвятил переводу специальную статью, в которой продемонстрировал его безграмотность и нелепость.145 Отрицательные суждения высказали П.А. Плетнев146 и В.С. Межевич.147 Зато рецензенты «Библиотеки для чтения» и «Сына отечества» оказались снисходительными.148 Последний даже восхищался приведенными выше стихами.
Впрочем, некоторое значение «Виндсорские кумушки» имели как первый перевод названной комедии Шекспира. Показательно, что в мае 1839 г. Кольцов просил Белинского прислать ему книжку, замечая: «хоть дурной перевод, да все лучше, чем ничего».149
* * *
Брянский был не единственный актер, который решил сам переводить Шекспира для сцены. Этим же занялся и крупнейший петербургский трагик В.А. Каратыгин (1802—1853). Ниже в главе о театре мы подробнее остановимся на эволюции отношения Каратыгина к Шекспиру. Здесь же отметим, что успех исполнения заглавной роли в «Гамлете» сделал его приверженцем английского драматурга.
Актер, широко образованный литературно, Каратыгин в значительной мере сам обеспечивал свой репертуар и перевел или переделал свыше тридцати иностранных пьес; в основном это были пьесы французских романтиков, особенно Дюма. В конце 1837 г. он перевел «Короля Лира», а в 1840 г. — другую трагедию Шекспира, «Кориолан».
Выбор шекспировских пьес был не случаен. Любимый актер Николая I, постоянно осыпаемый знаками царского благоволения, Каратыгин по своим политическим воззрениям стоял на крайне охранительных позициях. «Король Лир» интерпретировался им как трагедия самодержца, чьи священные права вероломно попираются им же облагодетельствованными подданными. Антидемократическому истолкованию легко поддавался и «Кориолан» — трагедия, где герой-патриций был противопоставлен толпе, «черни».
«Король Лир» в переводе Каратыгина не издавался и сохранился лишь в рукописном виде.150 Перевод этот сделан прозой, весьма тяжеловесной. Прав был Белинский, когда писал в 1839 г. о «беспримерно дурно переведенной» пьесе Шекспира, «безбожно искаженной переводом и бессмысленными пропусками».151 Можно лишь удивляться таланту Каратыгина и других русских трагиков, которые сумели добиться успеха при таком неудобопроизносимом тексте. Вот, к примеру, начало знаменитого монолога Лира ночью в степи (III, 2, 1—9): «Бушуйте ветры, зависайте ураганы, разверзнитесь хляби морские и потопите всю землю! Серные огни, быстрейшие самых мыслей, гремящие предтечи стрел, раздробляющих дубы, палите белую мою голову. А ты, всесокрушающий гром, грянь прямо в толстый шар вселенной, разбей основы бытия и размечи одним ударом все семена, порождающие неблагодарного человека!» (л. 32).
В тексте произведены большие сокращения; ряд сцен вовсе исключен (в их числе: I, 3; III, 1 и 3; IV, 2—4; V, 2). Это все сцены, в которых не участвует Лир: переводчик стремился сконцентрировать действие вокруг главного героя. Однако такое сокращение не проходило без ущерба для пьесы. Так, из-за отсутствия второй сцены IV действия зрителям было непонятно в V действии, по какому случаю вооружился герцог Альбанский.152 Кроме того, некоторые изъятия и сокращения произвел цензор.153
Верноподданнические мотивы в переводе были усилены. Кент, например, так обращается к королю в первом акте: «Августейший Лир, почитаемый мною всегда как король, любимый как отец, кому я служил как раб своему господину,154 чье имя поминал я в своих молитвах» (л. 5 об.). А в последнем действии он, обращаясь к Лиру, называет себя вместо «ваш слуга» (V, 3, 285) «ваш верноподданный» (л. 59). Употребление в переводе русизмов вроде «барин», «барыня», «хам», «холоп», «мужик», «леший» (вместо «spirit»), «сажень» (вместо «fathom») и т. п. в какой-то мере связывало трагедию с русским социальным бытом.
Новый перевод был встречен критикой холодно. В «Литературных прибавлениях» высказывалось предположение, что перевод сделан с французского и только сверен и выправлен по оригиналу; здесь отмечались неудачные выражения и русизмы, чрезмерные сокращения.155 Рецензент московской «Галатеи» одной из причин неуспеха Мочалова в роли Лира считал неискусный, тяжеловесный, укороченный перевод, в котором «все роли, кроме самого Короля Лира, обрезаны, характеры, следовательно, обесцвечены, общность уничтожена», так что он не дает понятия о «гениальном создании Шекспира».156 Белинский, мнение которого о переводе уже отмечалось, в 1844 г. снова писал, что «преплохой перевод "Лира"» держится на сцене «потому, что в нем оставлены только эффектные места, а все величественное течение внутренней драмы, основанной на глубокой идее и борьбе характеров, раздроблено на мелкие, врозь текущие, не связанные между собою ручейки».157 Более снисходительным оказался А.А. Григорьев, который считал, что «перевод довольно верен, даже урезки не совсем безбожны — хотя напрасно, по крайнему разумению, выпущена сцена между Кентом и Джентльменом в начале третьего акта, приготовляющая к появлению Лира».158
Перевод «Кориолана», выполненный Каратыгиным в 1840 г. и в следующем году изданный,159 имел те же особенности, что и предыдущий перевод трагика. Та же тяжеловесная проза, такие же, если не большие, сокращения сцен, прямо не связанных с героем, в результате чего трагедия сократилась на целый акт. Молодой Некрасов иронически писал об этом в «Пантеоне»: «От исключения целого акта драма сделалась только несколько непонятною, в строгом смысле слова; действия многих лиц сделались как-то безотчетны; причина своевольства народных трибунов и уступчивости сенаторов стала неудовлетворительна. Впрочем, ведь это давно было; кому нужно знать: почему так было? может быть, просто народ-то вздумал от скуки позабавиться!».160
В то время, когда Каратыгин трудился над созданием своих переводов для сцены, деятельность по созданию полных литературных переводов пьес Шекспира приобретает необычайно широкий размах. Только в 1839—1841 гг. были опубликованы по два перевода «Бури» и «Ромео и Юлии». Появились первые русские переводы «Антония и Клеопатры», «Цимбелина», «Сна в Иванову ночь» и «Двенадцатой ночи», а также новый перевод «Венецианского купца». Н.Х. Кетчер приступил к изданию полного собрания драм Шекспира в прозаическом переводе. Эта серия переводов открывала важнейший период в истории усвоения Шекспира в России — сороковые годы.161
Примечания
1. А. Галахов. Шекспир в России. «С.-Петербургские ведомости», 1864, 24 апреля, № 89, стр. 360.
2. «Московский вестник», 1827, ч. I, № 3, стр. 217.
3. Письмо от 12 ноября 1833 г.: «Уткинский сборник», I, М., 1904, стр. 55.
4. Король Лир, трагедия в пяти действиях. Сочинение Шекспира. Перевел с английского Василий Якимов. СПб., 1833, стр. IV.
5. «Русский архив», 1882, кн. III, № 6, стр. 194.
6. И.И. Панаев. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1950, стр. 57.
7. Грибоедов один из первых в России заявил, что «перекраивать Шекспира дерзко», и протестовал против перевода его пьес на русский язык с французских переводов (см. его письмо к С.Н. Бегичеву июля 1824 г.: А.С. Грибоедов, Полное собрание сочинений, т. III, Пгр., 1917, стр. 157).
8. «Московский телеграф», 1830, ч. XXXVI, № 21, стр. 79—80.
9. П.А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. I, СПб., 1885, стр. 293.
10. Подробнее об этом см. в статье: Ю.Д. Левин. Об исторической эволюции принципов перевода. В сб. «Международные связи русской литературы», Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, стр. 26—31.
11. «Современник», 1855, т. LIV, № 12, отд. V, стр. 267.
12. О нем см.: А. Никитенко. Михаил Павлович Вронченко. (Биографический очерк). ЖМНП, 1867, ч. CXXXVI, № 10, стр. 1—58 (имеется отдельный оттиск — СПб., 1867, 58 стр.) Н.А. Шостьин. Михаил Павлович Вронченко, военный геодезист и географ. М., 1956 (гл. IV. Литературная деятельность — стр. 70—80; перечень опубликованных переводов — стр. 85).
13. См.: А. Никитенко. Михаил Павлович Вронченко, стр. 22.
14. Там же, стр. 32—33.
15. См.: В. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1937, стр. 539.
16. В письме к В.В. Измайлову от 25 сентября 1827 г. (см. Шекспир. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1748—1962. М., 1964, стр. 546) Вронченко сообщал, что у него готова половина «Гамлета».
17. Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). СПб., 1913, стр. 400. Вопрос о помощи Языкова Вронченко интересовал покойного Б.М. Эйхенбаума. Однако ему не удалось выяснить ничего определенного (см.: Б.Ф. Егоров. Неосуществленный замысел Б.М. Эйхенбаума. «Ученые записки Тартуского гос. университета», вып. 98, 1960, стр. 309). Предположение Б.Ф. Егорова о том, что рукописи переводов Вронченко помогут решить этот вопрос, пока что не оправдалось: в известных нам рукописях Вронченко (ИРЛИ) правки Языкова не обнаружено.
18. См. письмо Вронченко к Н.А. Полевому от 13 ноября 1827 г.: Н.К. Козмин. Очерки из истории русского романтизма. СПб., 1903, стр. 517.
19. М. В р — о. Отрывок из Шекспирова Гамлета <д. III, сц. 3, 4>. «Московский телеграф», 1827, ч. XVIII, № 23, стр. 95—108; В — о. Монолог Гамлета. Там же, 1828, ч. XXI, № 9, стр. 68—69.
20. Гамлет. Трагедия в пяти действиях. Сочинение В. Шекспира. Перевел с английского М.В. СПб., 1828. Ниже при цитировании этого издания ссылки на страницы даются в тексте.
21. Сохранилось 5 тетрадей, относящихся к этой его работе (ИРЛИ, 19568/CXXXII б. 2). Отрывок из этой новой редакции (д. III, сц. 1) был напечатан в приложении к очерку: А. Никитенко. Михаил Павлович Вронченко, стр. 55—58.
22. См. письмо Н.М. Языкова к брату от 18 января 1828 г.: Письма Н.М. Языкова к родным..., стр. 349.
23. М. Вронченко. Первое действие из Шекспировой трагедии Макбет. «Московский-телеграф», 1833, ч. LI, № 11, стр. 364—392.
24. Рукопись хранится в Ленинградской театральной библиотеке им. А.В. Луначарского (ниже сокращенно: ТБ), шифр 24839. На обложке надпись: «Запрещена в 1836 г.».
25. См.: А.В. Никитенко. Дневник, т. I. Гослитиздат, 1955, стр. 189 (запись от 10 декабря 1836 г.).
26. Макбет. Трагедия в пяти действиях, в стихах. Сочинение В. Шекспира. Перевел с английского М.В. СПб., 1837. Ниже при цитировании этого издания ссылки на страницы даются в тексте.
27. ИРЛИ, 19570/CXXXII б. 2.
28. М. Вронченко. Первое действие Шекспировой трагедии Лир. «Московский телеграф», 1832, ч. XLVII, № 20, стр. 472—523. В тексте имеется ряд сокращений цензурного характера, которые устанавливаются при сравнении с сохранившейся черновой рукописью (ИРЛИ, 19575/CXXXII б. 2).
29. ИРЛИ, 19571/CXXXII б. 2; 19560/CXXXII б. 1.
30. Цит. по: Н.К. Козмин. Очерки из истории русского романтизма, стр. 517.
31. См.: Фауст, трагедия. Соч. Гете. Перевод первой и изложение второй части М. Вронченко. СПб., 1844, стр. I—II.
32. При характеристике «Гамлета» в переводе Вронченко мы воспользовались некоторыми материалами доклада Н.А. Никифоровской «Первые русские стихотворные переводы "Гамлета"», прочитанного в Институте русской литературы АН СССР 3 марта 1960 г.
33. Ср. в подлиннике:
Swounds, show me what thou’lt do:
Woo’t weep? woo’t fight? woo’t fast? woo’t tear thyself?
Woo’t drink up eisel? eat a crocodile?
I’ll do t. Dost thou come here to whine?
To outface me with leaping in her grave?
Be buried quick with her, and so will I...
(V, I, 296—301)
34. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 434.
35. Там же, стр. 428—429.
36. См. письмо П.А. Плетнева к В.А. Жуковскому от 6/18 января 1848 г. «Русский архив», 1870, № 7, стлб. 1294. Рецензент «Сына отечества» (1828, ч. CXXII, № 21 и 22, стр. 190) писал об этой строке: «Это мог бы пропеть могильщик русский, а не датский».
37. А. Никитенко. Михаил Павлович Вронченко, стр. 35.
38. «Московский телеграф», 1828, ч. XXIV, № 24, стр. 497.
39. «Сын отечества», 1828, ч. CXXII, № 21 и 22, стр. 192.
40. «Северная пчела», 1833, 29 марта, № 70, стр. 277.
41. «Литературная газета», 1830, т. II, 22 ноября, № 66, стр. 245.
42. И.И. Панаев. Литературные воспоминания, стр. 56.
43. А.В. Никитенко. Дневник, т. I, стр. 87.
44. П.А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. II, стр. 443.
45. В.Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т, VIII, 1955, стр. 190.
46. Упомянем здесь рецензента «Московского телеграфа», который, отмечая в переводе Вронченко недостаток «поэтической гармонии выражения, какая звучит в стихах Шекспира», высказывал пожелание, чтобы переводчик «с превосходным даром хорошо понимать и верно передавать Шекспира... соединил отчетливость и гармонию стихов, например, Пушкина (!)» («Московский телеграф», 1830, ч. XXXVI, № 21, стр. 81).
47. Письма П. А; Катенина к Н.И. Бахтину. СПб., 1911, стр. 144—145.
48. Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934, стр. 277. Ср. также отзыв А.Н. Вульфа о «Гамлете» в переводе Вронченко («Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, Пгр., 1915, стр. 36).
49. А. Никитенко. Михаил Павлович Вронченко, стр. 58.
50. М.Л. Михайлов, сравнивая два перевода «Гамлета», отмечал: «Вронченко был гораздо больше поэт, чем старательный Кронеберг» (Сочинения, т. III, М., 1958, стр. 47).
51. Предисловие сохранилось в рукописи перевода, запрещенной в 1836 г. (ТБ, 24839); СМ. публикацию его: Шекспир. Библиография..., стр. 544—545.
52. Памятуя, вероятно, прежние упреки критики, Вронченко специально оговаривал в примечаниях: «...некоторая напыщенность слога в разных местах пиесы, особенно же во 2-м явлении 1-го действия, не есть дело моего произвола: в подлиннике то же самое» («Макбет», стр. 142).
53. ИРАН, 19570/CXXXII б. 2, стр. 69.
54. См. его объяснение по этому поводу («Макбет», стр. 137—138, прим. 12).
55. В статьях «Репертуар русского театра — Пантеон русского и всех европейских театров» (1840) и «Журналистика» (1840) (В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, 1954. стр. 67, 187).
56. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, 1953, стр. 446.
57. Там же, т. IV, стр. 181.
58. «Северная пчела», 1837, 22 сентября, № 212, стр. 845—846.
59. «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1837, 30 октября, № 44, стр. 433; П.А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. I, стр. 298—299.
60. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, 1956, стр. 452.
61. И.С. Тургенев. «Фауст», трагедия. Соч. Гете. Перевод... М. Вронченко. Полное собрание сочинений и писем, Сочинения, т. I, Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, стр. 255.
62. Биографию Якимова см.: Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805—1905). Харьков, 1908, стр. 73—76 (2-я пагин.); Проф. Н. Сумцов. В.А. Якимов. «Южный край» (Харьков), 1903, 22 декабря, № 7948; Русский биографический словарь, т. Яблоновский—Фомин. СПб., 1913, стр. 51—52 (здесь ошибочно указано отчество Якимова — «Яковлевич» и год его рождения — 1800).
63. М. Де-Пуле. Харьковский университет и Д.И. Каченовский. «Вестник Европы», 1874, № 1, стр. 97.
64. См. там же, стр. 95.
65. М. Сухомлинов. Уничтожение диссертации Н.И. Костомарова в 1842 году. «Древняя и новая Россия», 1877, т. I, стр. 43.
66. Король Лир. Трагедия в пяти действиях. Сочинение Шекспира. Перевел с английского Василий Якимов. СПб., 1833 (первое действие трагедии было напечатано отдельно в Харькове в 1831 г. и в «Московском телеграфе», 1832, ч. XLIV, № 5, стр. 19—79); Венецианский купец. Драма в пяти действиях. Сочинение Шекспира. Перевел с английского Василий Якимов. СПб., 1833. Ниже при цитировании этих изданий ссылки на страницы даются в тексте.
67. «Русский архив», 1882, кн. III, № 6, стр. 194.
68. Цит. по: Н. Барсуков. Жизнь и труды М.П. Погодина, кн. IV. СПб., 1891, стр. 123.
69. «Молва», 1832, 1 марта, № 18, стр. 71.
70. Цит. по: Н. Барсуков. Жизнь и труды М.П. Погодина, кн. IV, стр. 123.
71. См.: А.В. Никитенко. Дневник, т. I, стр. 125.
72. См.: Историко-филологический факультет Харьковского университета..., стр. 74.
73. А. Н-ко. О переводе Шекспира. «Северная пчела», 1833, 29 марта, № 70, стр. 278.
74. См. письмо В.Ф. Одоевского к Пушкину от 27 марта 1833 г.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XV, Изд. АН СССР, 1948, стр. 56.
75. Там же. Л.Б. Модзалевский высказывал предположение, что в действительности Пушкин не желал тратить время на выслушивание перевода Якимова, о поэтическом таланте которого он мог судить по подаренному ему стихотворению «Дар слова» (см.: Пушкин, Письма, т. III, М.—Л., 1935, стр. 574).
76. «Московский телеграф», 1833, ч. LI, № 9, стр. 155, 157.
77. «Молва», 1833, 15 августа, № 97, стр. 386.
78. «Северная пчела», 1833, 27 мая, № 116, стр. 462 (вся рецензия: № 116, стр. 461—463; № 117, стр. 465—466).
79. И. Срезневский. Отчет о состоянии имп. Харьковского университета за 1842/43 академический год. Харьков, 1843, стр. 41.
80. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 426.
81. Письмо от 11 декабря 1840 г.: В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 578.
82. Н.И. Костомаров. Автобиография. М., 1922, стр. 138.
83. Заметим, однако, что эти переводы не были совсем бесполезны. А.Г. Глаголев в «Умозрительных и опытных основаниях словесности» (ч. IV, СПб., 1834, стр. 135) ссылался на них, указывая, что буквальные переводы «полезны в смысле филологическом, открывая нам не только внутренний дух автора, но и самый состав отечественного языка его». Я.К. Грот, изучая в 1838 г. Шекспира в подлиннике, сравнивал «Короля Лира» с переводом Якимова (см. его письмо к Плетневу от 29 сентября 1845 г.: Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым, т. II, СПб., 1896, стр. 572). Дружинин во вступлении к своему переводу «Короля Лира» писал, что «честный и полезный труд» Якимова был для него «лучшим руководством и пособием» (А.В. Дружинин, Собрание сочинений, т. III, СПб., 1865, стр. 10).
84. О Брянском см. выше, стр. 120—121.
85. См.: И.И. Панаев. Литературные воспоминания, стр. 57.
86. ТБ, 23273. См. подробное описание рукописи: А.С. Булгаков. Раннее знакомство с Шекспиром в России. «Театральное наследие», сб. I, Л., 1934, стр. 105—110.
87. Об изменениях и изъятиях, производившихся в рукописи цензором Е. Ольдекопом, см.: А.С. Булгаков. Раннее знакомство с Шекспиром в России, стр. 106—107, 109—110.
88. Несколько слов о Шекспировой драматической хронике: Жизнь и смерть Ричарда III, переведенной г. Брянским и представленной в бенефис его. «Северная пчела», 1833, 15 февраля, № 35, стр. 138.
89. А.В. Никитенко. Дневник, т. I, стр. 126.
90. См.: «Северная пчела», 1835, 28 декабря, № 294, стр. 1176.
91. Сохранилось два экземпляра рукописи этого перевода: Венецианский купец. Драмма в 5-ти действиях Вилиама Шекспира (с немецкого А. Шлегеля). (Перевод А.С...на) (ТБ I, 1, 2, 89; I, 11, 5, 7).
92. И.И. Панаев. Литературные воспоминания, стр. 56—57.
93. Там же, стр. 57.
94. Отелло, венецианский мавр. Драма в пяти действиях Шекспира. Перевод с английского Ив. П-ва. СПб., 1836 (ссылки на страницы этого издания даны в тексте).
95. «Библиотека для чтения», 1837, т. XXI, № 3, отд. VI, стр. 19.
96. И.Г. Ямпольский полагает, что это Вронченко, поскольку Панаев писал, что его ложь «вскоре была обнаружена г. Вронченкою, глубоко любившим и понимавшим Шекспира» (И.И. Панаев. Литературные воспоминания, стр. 62 и 368, прим. 72).
97. «Северная пчела», 1837, 8 октября, № 227, стр. 905—908. Кроме того, появилась рецензия в «Сыне отечества» (1837, ч. CLXXXIII, библиография, стр. 214—218), и Плетнев писал о переводе Панаева в своей статье «Шекспир» (см.: П.А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. I, стр. 297—298). А.А. Григорьев заметил впоследствии: «..."Отелло", переведенный якобы с английского, отзывался сильно тем запахом амбре, каким умастил его почтенный Альфред де-Виньи» («Отечественные записки», 1850, т. LXX, № 6. отд. VIII, стр. 169).
98. В.У. Русский театр. «Московский телеграф», 1829, ч. XXIX, № 18, стр. 273—275.
99. К.А. Полевой. Записки. СПб., 1888, стр. 361—362.
100. Гамлет, принц датский. Драматическое представление. Сочинение Виллиама Шекспира. Перевод с английского Николая Полевого. М., 1837 (ниже ссылки на страницы этого издания даны в тексте).
101. С.П. Соловьев. Двадцать лет из жизни Московского театра. «Театральная газета», 1877, 5 сентября, № 81, стр. 255; 8 сентября, № 84, стр. 2б6. В речи Полевого содержалось, хотя и без ссылки на автора, знаменитое гетевское сравнение Гамлета с драгоценным сосудом, в который посажены семена дуба. Свидетельство Соловьева находит подтверждение в писаниях самого Полевого, который еще в 1832 г. утверждал, что Гамлет гибнет «от малодушия при взгляде на раскрытые тайны судьбы» («Московский телеграф», 1832, ч. XLIII, № 2, стр. 379. Курсив мой, — Ю.Л.).
102. См. об этом: Б. Алперс. Актерское искусство в России, т. I. М.—Л., 1945, стр. 138.
103. А.И. Герцен. О развитии революционных идей в России (перевод с французского). Собрание сочинений в тридцати томах, т. VII, Изд. АН СССР. М., 1956, стр. 214.
104. «Театральная газета», 1877, 5 сентября, № 81, стр. 255.
105. Там же, 8 сентября, № 84, стр. 266.
106. А.И. Герцен. Москва и Петербург. Собрание сочинений в тридцати томах, Т. II, 1954, стр. 39.
107. «Гамлетовские» настроения обнаруживаются в письмах Полевого к брату. 5 ноября 1837 г. он признавался, что испытывает «совершенное между всех одиночество», и мысль «с этими людьми тебе доживать век!» беспрестанно тяготит его. «Это страшно. Мы так крепко держимся за жизнь; а разве жизнь это». 15 июня 1839 г. он писал: «При растерзанной душе, при потерях, при взгляде на детей, на обстоятельства, на людей, на все, что вокруг нас делается, на то, как судьба отравляет нам каждое наслаждение, как гадки иногда люди, как изменчива и обманчива жизнь, — тяжело, друг и брат, тяжело!» (К.А. Полевой. Записки, стр. 391, 470).
108. Характерно, что в переводе той же сцены Розенкранц и Гильденстерн предлагают Гамлету не «служить» ему (II, 2, 278), но быть его «товарищами» (стр. 78). Соответственно изменен и ответ Гамлета: он говорит не о своих «слугах», но о «толпе товарищей», которая его окружает.
109. Подробно эти искажения были охарактеризованы в статьях И.Я. и А.И. Кронебергов (см. ниже, стр. 279).
110. Н.А. Полевой. Очерк русской литературы за 1837 год. «Сын отечества и Северный архив», 1838, т. I, отд. IV, стр. 50.
111. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 432.
112. В.Г. Белинский. Шекспир. С английского Н. Кетчера. Вып. IV. Полное собрание сочинений, т. XIII, 1959, стр. 116—117.
113. В. Шекспир. Гамлет, принц датский. Перевод... Д.В. Аверкиева. М., 1895, стр. 3.
114. Сохранился экземпляр трагедии с разрешением Главного управления по делам печати «к представлению на народных театрах» от 23 августа 1908 г. (ТБ, 29047).
115. А. Григорьев. Воспоминания. М.—Л., 1930, стр. 109.
116. Только после «Гамлета» Полевого стало возможным появление такого заглавия, как «Гамлет Щигровского уезда». Характерно, что Д.Т. Ленский, переделывая французский водевиль Дюмануара «Indiane et Charlemagne» и понимая, что обозначенные в заглавии имена героев ничего не говорят русскому зрителю, назвал свою переделку «Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна» (1844).
117. Произведения, в которых упоминается исполнение «Гамлета» в переводе Полевого: А.А. Григорьев «Искусство и правда» (1854); М.Л. Михайлов «Перелетные птицы» (1854); М.А. Стахович «Былое» (1858); А.Ф. Писемский «Тысяча душ» (1858); «Люди сороковых годов» (1869); А.Н. Островский «Лес» (1870); Б.М. Маркевич «Четверть века назад» (1878); А.И. Куприн «Полубог» (первоначально: «Посмертная слава», 1896). В романе Маркевича «Четверть века назад», в первом томе которого действие развивается на фоне подготовки и представления «Гамлета» любителями, своеобразно соотнесены три перевода трагедии. Герой романа Гундуров — аристократ и по рождению и по духу в изображении автора, исполняя роль Гамлета, читает все монологи в переводе А. Кронеберга. Остальные участники — «толпа», по понятиям Маркевича, — играют по популярному переводу Полевого. А старый педант — смотритель училища — перед спектаклем прочитывает трагедию в переводе Вронченко.
118. «Московский наблюдатель», 1837, ч. X, ноябрь, кн. 1, стр. 123—125.
119. «Библиотека для чтения», 1837, т. XXI, № 4, отд. VI, стр. 45—49.
120. П.А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. I, стр. 299. Еще резче о переводе Полевого Плетнев писал впоследствии в рецензии на «Гамлет» в переводе А.И. Кронеберга: «Вышел такой Гамлет, который приноровлен к публике, как у Дюси, между тем смотрит на всех так, как бы он был шекспировский, а стихами говорит все сумароковскими» (там же, т. II, стр. 444).
121. Статья первоначально была опубликована в «Московском наблюдателе» (1838, ч. XVII, май, кн. 1, стр. 80—97). В библиотеке Белинского сохранился экземпляр «Гамлета» с дарственной надписью Полевого: «Сердитому, но честному критику, Орланду Фуриозу, но которого нельзя не любить среди порядочного и умного мира и людей и литературы». Экземпляр содержит отчеркивания мест, цитированных в статьях Белинского (см.: Л. Ланской. Библиотека Белинского. «Литературное наследство», т. 55, М., 1948, стр. 502—504, 507).
122. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 426, 433, 436.
123. В.Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948, стр. 199.
124. Белинский, Письма, т. I, СПб., 1914, стр. 411.
125. И. Кронеберг. Гамлет, принц датский. Драматическое представление Виллиама Шекспира. Перевел с английского Николай Полевой. «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1839, т. II, 9 сентября, № 10, стр. 189—196.
126. См. письмо А.И. Кронеберга к Белинскому от 25 мая 1840 г.: В.Г. Белинский и его корреспонденты, стр. 124.
127. «Литературная газета», 1840, 19 июня, № 49, стлб. 1116—1129; 22 июня, № 50, стлб. 1140—1145.
128. 15 августа 1840 г. Кольцов писал Белинскому, что статья в «Литературной газете» «очень вещь невыгодная для Кронеберга — и довольно дурно его рекомендует. Можно замечать и поправлять ошибки как ему угодно, можно даже перевести Гамлета лучше Полевого и легче Вронченки; но так бессовестно бранить старше себя и верно лучше себя, и за такой труд, за который Николай Алексеевич Полевой заслуживает в настоящее время полную благодарность! Без его перевода не было бы на сцене такого Гамлета и в нем такого Мочалова, какие у нас теперь» (А.В. Кольцов, Полное собрание сочинений, СПб., 1909, стр. 221).
129. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 516, 513.
130. Там же, т. IV, стр. 129.
131. Там же, стр. 296.
132. Там же, т. XII, 1956, стр. 8. См. также его письмо к Боткину от 21 апрели 1840 г. (там же, т. XI, стр. 516).
133. «Репертуар русского театра», 1841, т. I, кн. 1, Смесь, стр. 8—12 (статья подписана криптонимом Межевича — «Л.Л.»). Сочувственный отклик на эту статью см.: «Северная пчела», 1841, 14 февраля, № 35, стр. 139.
134. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 583.
135. См. там же, т. V, стр. 470; т. VI, стр. 82, 674; т. VIII, стр. 190, 264—265.
136. См., например: «Учебно-воспитательная библиотека», т. II, М., 1878, стр. 120—129 (перепечатано: Н. Стороженко. Опыты изучения Шекспира. М., 1902, стр. 383—397); «Русское обозрение», 1896, № 10, стр. 936—937.
137. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 426—427.
138. «Новоселье», ч. III, СПб., 1846, стр. 145—200.
139. Полевой умер 22 февраля 1846 г., а альманах, в котором помещался «Тимон Афинянин», был подписан к печати цензором 20 февраля.
140. Согласно последней воле Полевого, он был похоронен в некрашеном гробу и в халате (см.: Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов, стр. 75).
141. «Новоселье», ч. III, стр. 192. Рецензент официозной «Северной пчелы», признавая посмертно «неоспоримые н незабвенные литературные заслуги» Полевого, выражал, однако, сожаление, что в «Тимоне Афинянине» он «впал в цииисм действительный, вовсе не шекспировский» («Северная пчела», 1846, 1 мая, № 96, стр. 383).
142. В.С. Нечаева высказала предположение, что переводчиком был Н.С. Селивановский (1806—1852) — московский журналист и издатель, владелец типографии, в которой печатались «Виндсорские кумушки»; в материалах Московского цензурного комитета указано, что комедия «переведена для сцены Н.С...мъ» (см.: В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, стр. 734). Однако в одной из рецензий «Репертуара и Пантеона» (1844, т. VI, кн. 5, стр. 188) сообщалось: «На московскую сцену г. Воскресенский, в былые годы переводчик В. Скотта с французского, нынче автор замоскворецких романов, пустил так нареченных им "Виндзорских кумушек" в бенефис Щепкина, помнится, в 1838 году». М.И. Воскресенский (ум. 1867) — беллетрист 1830—1850-х годов, автор ряда низкопробных романов (см.: В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IV, стр. 319; т. V, стр. 188—189, 470 и т. д.). Воскресенский писал и для сцены, в частности перевел водевиль для одного из бенефисов Щепкина (см.: «Антракт», 1868, № 9, стр. 8). Изданный в 1838 г. роман Воскресенского «Проклятое место» был также напечатан в типографии Селивановского.
143. Виндсорские кумушки. М., 1838, стр. IV.
144. Там же, стр. VIII.
145. «Московский наблюдатель», 1839, ч. I, № 2, отд. V, стр. 67—71; В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 69—71.
146. «Современник», 1838, т. XII, № 4, стр. 106—107; П.А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. II, стр. 263—264.
147. «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1838, 23 апреля, № 17, стр. 334.
148. «Библиотека для чтения», 1838, т. XXVII, № 4, отд. VI, стр. 31—32; «Сын отечества», 1838, Т. IV, отд. IV, стр. 128—129.
149. А.В. Кольцов, Полное собрание сочинений, стр. 195.
150. ТБ, I, 8 4, 3,; I, 19, 4, 29; I, 3, 2, 81. Последние два экземпляра описаны А.С. Булгаковым («Театральное наследие», сб. I, Л., 1934, стр. 112—117). Ниже цитаты приведены по второму экземпляру.
151. В.Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 94, 284.
152. См.: «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1838, 19 февраля, № 8, стр. 156.
153. Подробнее об этом: А.С. Булгаков. Раннее знакомство с Шекспиром в Рос. сии, стр. 113—115.
154. В оригинале выделенным словам соответствуют: «royal», «as my master follow’d» (I, 1, 141, 143).
155. «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1838, 19 февраля, № 8, стр. 155—158.
156. «Галатея», 1839, ч. I, № 2, стр. 178—181.
157. В.Г. Белинский. «Гамлет». Трагедия В. Шекспира, перевод А. Кронеберга. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 190—191.
158. Ап. Григорьев. Александринский театр. Король Лир. «Репертуар и Пантеон», 1846, т. XVI, кн. 11, Театральная летопись, стр. 69.
159. Кориолан, историческая трагедия в 4-х действиях, Шекспира. «Репертуар русского театра», 1841, т. I, кн. 2, стр. 1—34. Переводчик не указан. Принадлежность перевода Каратыгину устанавливается на основании тождества печатного текста с цензурованной рукописью 1840 г. «Кай Марций Кориолан» (ТБ, I, 7, 4, 82), на титульном листе которой имеется надпись: «Это перевод В.А. Каратыгина, кот<орый> сам играл Кориолана, а его мать — жена его. Перевод значительно сокращен сравнительно с подлинником. П. Гнедич».
160. Н.А. Некрасов. Летопись русского театра. 1841 год. Месяц январь. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, М., 1950, стр. 455. Между прочим, Некрасов здесь «переводчиком или переделывателем» «Кориолана» называет Каратыгина.
161. Рассматривая переводы шекспировских пьес 1820—1830-х годов, мы оставили в стороне фрагментарные переводы, не имевшие существенного значения для пропаганды творчества драматурга в России и не обладавшие значительными художественными достоинствами. Из их числа следует выделить лишь два отрывка из «Сна в летнюю ночь», поэтично переведенных Ф.И. Тютчевым («Молва», 1833, 19 января, № 8, стр. 29—30): «Любовники, безумцы и поэты» (отрывок из монолога Тезея; V, 1, 7—17) и «Заревел голодный лев» (песенка Пука: V, 2, 1—12).
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |
