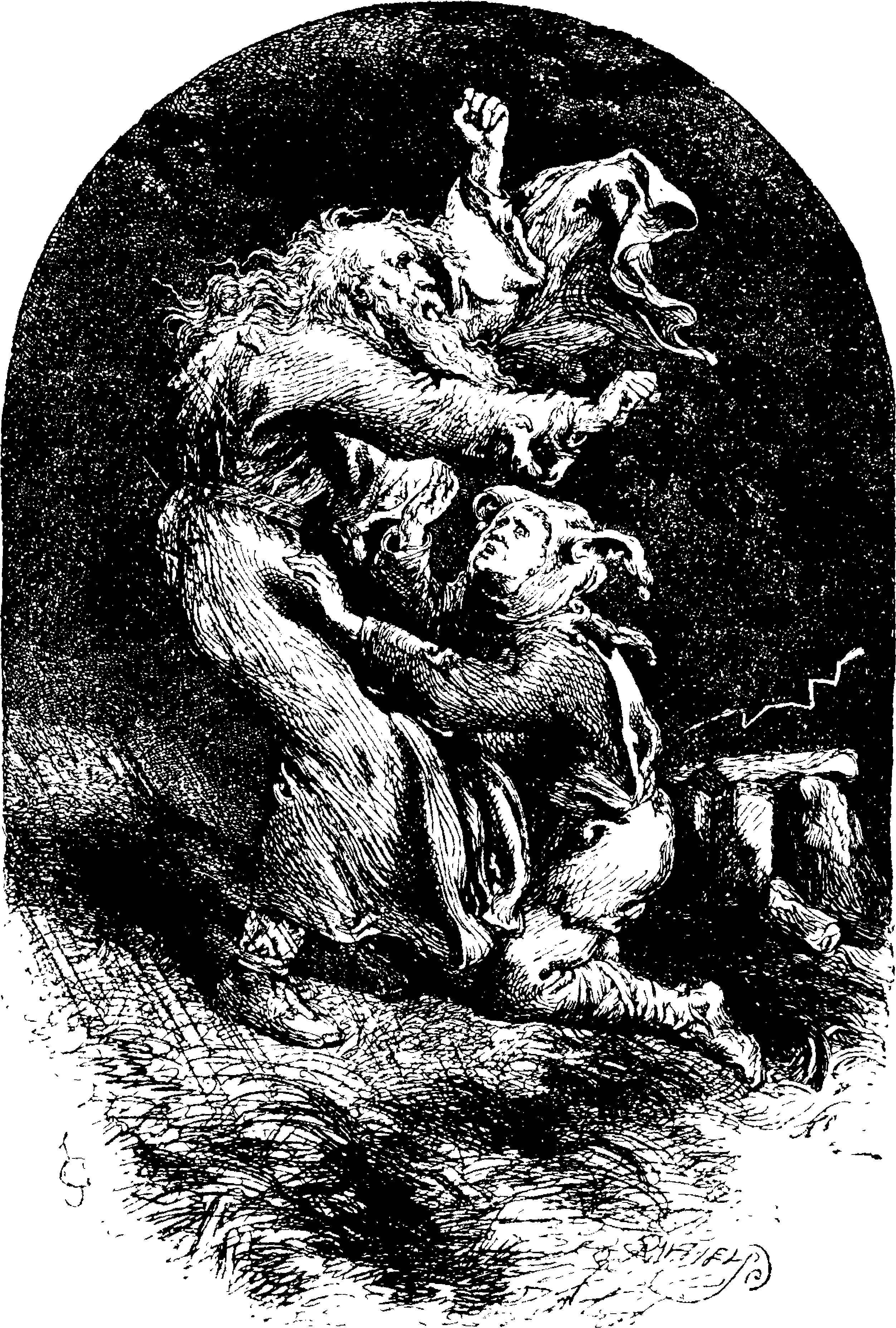Разделы
Счетчики
Глава 45. Я говорю, на стол облокотясъ1
Джон Китс писал, что поэтическая личность «не есть отдельное существо — она есть всякое существо и всякое вещество, все и ничто — у нее нет ничего личностного; она наслаждается светом и тьмой — она живет полной жизнью, равно принимая уродливое и прекрасное, знатное и безродное, изобильное и скудное, низменное и возвышенное». И таким образом, «поэт — самое непоэтическое существо на свете, ибо у него нет своего «я»: он постоянно заполняет собой самые разные оболочки»2.
Во всех шекспировских героях присутствует победная и независимая энергия, которая ставит их высоко над реальным миром. Поэтому величайшие трагические характеры так близки к комедии. Их экспансивность и самонадеянность восхищают. Это объясняет, почему Шекспира в действительности не заботят мотивы поступков. Его герои настолько полны жизни с первой минуты появления на сцене, что нет никакой необходимости оправдывать их действия. Он даже устраняет мотивы, уже обозначенные в источниках, просто чтобы усилить внутреннюю всепоглощающую энергию. Герои становятся загадочными и притягательными, побуждающими аудиторию удивляться или пугаться.
Их слова и действия неразделимы, высказывания до того прочно связаны друг с другом, что ясно показывают состояние души. Сама модуляция голоса создает неповторимую узнаваемую личность. Во второй сцене «Отелло», когда герой впервые появляется перед зрителями, ритм его существования впечатан в структуру стиха с отрывистыми строками: «This better as it is... Let him do his spite... Not, I must be found... What is the news? ... What's the matter, think you?»3
Что касается великих трагических героев, то они движимы некой внутренней силой. Их судьба не начертана в звездах бесстрастным Роком и менее всего — Божественным провидением. Они исполнены такой неодолимой внутренней жизни и движутся столь безудержно, набирают силу по ходу действия пьесы. Даже в своем падении они прекрасны.
Гений должен найти свое время и способен расцвести только в его атмосфере. Шестнадцатый век объявлялся, например, эпохой авантюристов и сильных личностей. На английской сцене мы впервые видим такого героя в «Фаусте» и «Тамерлане». В промежутке между императивами религиозной культуры шестнадцатого века и «общественными» требованиями семнадцатого в центре изысканий Монтеня, как и в пьесах Марло, оказалась человеческая личность. Это было и время Шекспира.
Главные шекспировские герои обладают мощью своего создателя. Их жизненная сила изумляет. Они обладают как физической, так и умственной энергией. Даже Макбет сохраняет некий мистический оптимизм. Они существуют в согласии с силами вселенной. Подлинные шекспировские злодеи — пессимисты, они отвергают человеческую силу и человеческое величие. Они погружены в себя и мрачны, враги развития и жизненной силы. И здесь, если не повсюду, можно увидеть, на чьей стороне симпатии Шекспира. Изучение его образной системы показывает, что он любит активное движение во всех его проявлениях, будто, только ускоряя события, можно постичь суть вещей.
Естественно и неизбежно, что в его героях присутствуют черты его собственного характера, именно поэтому они живые. Источник их жизни — он сам. Подтверждение можно найти в самих пьесах. Ричард III провозглашает: «Тысяча сердец живут в моей груди»4, а Омерль в «Ричарде II» восклицает: «У меня в одной груди тысяча душ»5; в той же пьесе сам король признается: «Один играю роли многих». Шекспир настойчиво подчеркивает эту странную мысль. Как сказал о Шекспире Хэзлит, «чтобы стать кем-то, со всеми сопутствующими подробностями, ему стоило только об этом подумать». Шекспир обладал сверхъестественно чутким воображением, помогавшим ему проникать в существование другого человека. Этот плодотворный дар выражается в другой извечной шекспировской теме. Я не то, что я есть. Кто скажет мне, кто я?
Поскольку в мириадах героев и героинь Шекспира присутствует он сам, они должны в основе своей оставаться загадочными. Ими правит не разум; их логика — всегда логика интуиции и сновидения. Их двойственность часто определяется ролью, которую они должны играть, и ролью, которую принимают на себя в жизни. Таков секрет его героинь. Его характеры остры, загадочны и причудливы. Зачастую их невозможно понять, их фантазии — за пределами постижимого. Офелия говорит отцу о поведении Гамлета: «Я не знаю, милорд, что и подумать». Они неотъемлемы от своего создателя. Вот почему шекспировские герои по-прежнему «современны» — в их основе разнообразие и неоднозначность. Иногда говорят, что Шекспир «вывел на сцену сознание индивидуума», но будет вернее сказать, что вслед за Монтенем он воплотил идею переменчивого сознания. Почти наверняка он не делал этого намеренно, скорее так проявился его природный гений.
Здесь также отражается и мироощущение актера. Как говорил герой пьесы Сартра «Грязные руки», «вы думаете, я в отчаянии? Ничуть. Я ломаю комедию». Отмечалось, что в шекспировских пьесах самопознание основано на действии; изображая других, он все больше становится собой. Или, выражаясь иначе, Шекспиру, чтобы понять себя, нужно было воплотиться в кого-то еще. Он часто прибегает к театральным метафорам, и одно из любимых его выражений — «играть роль». Герои-любовники учатся импровизировать и играть друг перед другом. Самые интересные его герои в глубине души актеры. Ни один драматург той эпохи не подчеркивал постоянно этот аспект. Шекспир не обязан интересом к драматургии тому, что сам был актером; скорее он стал актером оттого, что испытывал интерес к построению драматического действа. В истории мирового театра его пьесы более всего пригодны для сцены, за исключением, быть может, пьес Мольера.
В монологе Тезея из «Сна в летнюю ночь» о природе воображения говорится четко и прямо:
Перо поэта придает им форму
И место обитания, и имя6.
Но в словаре елизаветинского театра слово «shape» обозначало сценический костюм, «habitation» — место, где должен был стоять актер, а «name» — свиток с именем персонажа, висевший на его груди.
Когда Гамлет в своем монологе говорил о «прекрасной храмине, земле», «пустынном мысе», «величественной кровле, выложенной золотым огнем»7, его аудитория знала, что он обращается поочередно к стенам театра, к голой сцене и к навесу над головой, усыпанному звездами. Театр был местом, где можно было высказаться. Шекспир пропитан языком сцены. Кто распознает во всех его упоминаниях о «тенях» театральный термин? Так, в «Сне в летнюю ночь», когда Пак под конец говорит
Если тени оплошали,
То считайте, что вы спали8,
он имеет в виду актерский состав. Когда актер, играющий Букингема в пьесе «Все правда», говорит: «Я тень несчастного Букингема», его слова имеют откровенно театральный смысл. На память приходит также замечание Макбета о том, что
Жизнь — ускользающая тень, фигляр,
Который час кривляется на сцене
И навсегда смолкает.
В одной из самых зрелищных пьес Шекспира, «Ричарде II», идет постоянная перекличка между тенью, отражающей реальность, и тенью — признаком иллюзорности или нематериальности. В шекспировских пьесах тени — повсюду. У них имеется любопытное свойство, которое очень хорошо понимал Шекспир: тени, как бы иллюзорны они ни были, придают глубину и контрастность любой картине.
Шекспир видел своих героев, как увидел бы их актер, а не поэт. Стоит заметить, к примеру, что многие его герои покрываются румянцем. Это сценический эффект. Диккенс говорил, что стоит ему только представить себе героя, как он появляется перед ним. Шекспир обладал этим свойством в полной мере. И главное в том, что Шекспир видит перед собой не просто своего героя, а актера, играющего эту роль. Вот почему из всех современных ему драматургов у него самые точные ремарки. У него это получалось инстинктивно. Он представлял себе жесты актеров, то, как они ходят по сцене. Где-то преобладает одно движение, где-то — сразу несколько. Характерно, что сценам с участием многих действующих лиц предшествуют сцены, где они малочисленны; это делается и по принципу контраста, и чтобы дать время большой группе актеров собраться вместе. Девяносто пять процентов строк у Шекспира предназначались четырнадцати основным актерам труппы; отчасти это вопрос приоритета, но одновременно и практический вопрос экономии средств. Такое распределение ролей позволяло проводить репетиции без участия актеров, нанятых на время.
Одна из ремарок к «Тимону Афинскому» содержит весь спектр шекспировской мизансцены: «Затем, отстав от остальных, входит раздосадованный Апемант». В «Антонии и Клеопатре» есть ремарка: «Торопливо входит стражник». Шекспир не только видит героев, но и слышит их. В таком деле, как писал он сам, движение само по себе красноречиво. Должно быть, он мысленно видел и костюмы, так как в елизаветинском театре одежда «делала» человека. Есть сцены, в которых он предписывает надеть маски или одеваться во все черное. Для него было крайне важно «увидеть» пьесу мысленно. Вот почему он столь внимательно относился к времени и дневному освещению открытой площадки и предназначал сцены, происходящие в сумерках, для реальных лондонских сумерек. В последнем акте «Ромео и Джульетты» Ромео и его слуга входят «с факелом»; в заключительном акте «Отелло» мавр входит «с огнем». Таким образом, каждая сцена или эпизод имеют собственную форму и ритм, где главным является продолжительность и последовательность действия. Поэтому в Первом фолио он был назван «знаменитым сценическим поэтом», а Толстой считал, что главный дар Шекспира заключается в «мастерском видении сцен».
Становится ясно, что он видел определенных актеров, Кемпа или Бербеджа, Каули или Синклера, в ролях, которые предназначил для них в своем воображении. У большинства актеров были свои особенности, и Шекспир использовал их с большим искусством. Он слышал их голоса; он заранее знал, какими они будут на сцене. Зачем Гертруде говорить, что Гамлет «толст и одышлив», наблюдая его схватку с Лаэртом, если бы Бербеджу не предстояло покрыться испариной во время сцены дуэли? О том, сколько весит Гамлет, больше нигде не упоминается. Возрастающая глубина и сложность трагических образов Шекспира были напрямую связаны с ростом актерского мастерства Бербеджа. Они росли постепенно вместе с ним. Шекспир сочинял все более сложные роли и для Кемпа, вершиной мастерства которого стала роль ткача Основы в «Сне в летнюю ночь», где его гениальная клоунада приобрела налет лиризма и таинственности.
Случается, что персонаж приобретает дополнительные черты благодаря какому-то одному актеру. Например, Чарлз Гилдон писал в 1694 году: «Мне известно из достоверного источника, что актер, играющий Яго, весьма популярен как комик, что заставило Шекспира добавить к его роли некоторые слова и выражения (возможно, не соответствующие характеру)». По той же причине Отелло иногда ошибочно причисляют к одной из форм комедии дель арте.
Некоторые историки театра объясняют развитие шекспировского мастерства сотрудничеством с разными актерами и разными театральными компаниями. Утверждали, например, что в ранний период он писал «веселые» комедии для Кемпа, а повзрослев, «сладкие с горчинкой» для его преемника. Это утверждение имеет то несомненное преимущество, что его нельзя доказать. Тем не менее его достоинство в том, что оно подчеркивает тесную связь между пьесой и актерами. Так же несомненно и то, что бывали случаи, когда Шекспир принимал советы своих товарищей-актеров, относившиеся к постановке и даже репликам.
Достаточно очевидно, что Шекспир уделял много внимания «дублированию»: когда один актер играл в одном спектакле две или больше ролей, ему нужно было следить, чтобы персонажи не оказались на сцене одновременно, что само по себе было подвигом в условиях, когда двадцати одному актеру приходилось выступать в шестидесяти ролях. Но, дублируя роли, он добивался замечательных сценических эффектов. Так, при исполнении одним актером ролей Корделии и Шута в «Короле Лире» Шут загадочным образом исчезает, когда по ходу действия верная и добрая дочь короля появляется снова — вызывая глубокую бессловесную иронию. Шекспир, как мы уже знаем, писал роли для себя, и в каждой пьесе найдется персонаж, которого он намеревался сыграть. Персонаж мог вовсе не иметь сходства с автором, но Шекспир хотел играть именно его.
То, что он подстраивался под актеров, видно и из других источников. Актеры на протяжении поколений замечали, что его строки, раз выученные, остаются в памяти. Они, говоря словами великого актера девятнадцатого столетия Эдмунда Кина, «приклеиваются накрепко». Это, конечно, было необыкновенным преимуществом для первых исполнителей, вынужденных играть разные пьесы в течение одного театрального сезона. Звучание слов было так настроено на модуляции человеческого голоса, будто Шекспир, записывая слова на бумаге, мог слышать, как их произносят актеры. В них ощущается естественная речевая выразительность, чего никак не скажешь о неподатливых фразах Кида или Марло. Вдобавок актеры замечали, что сигнал к движению или к какому-то действию на сцене заключался в самом диалоге. Во многих шекспировских пьесах используется прием драматического молчания. Для обозначения поворота сюжета Шекспир применяет шум за сценой, или звуки вроде стука в ворота в «Макбете», или крик толпы в «Юлии Цезаре». Никто никогда не обнаруживал более профессионального и совершенного владения всеми театральными приемами.
Будучи актером, он хорошо чувствовал аудиторию. Его целью было доставить публике удовольствие, и каждая сцена в пьесе построена так, чтобы привлечь внимание зрителей. В диалогах есть места, которые явно должны сообщить той части зала, которой плохо видно со своих мест, что происходит на сцене. Когда Макбет спрашивает: «Куда исчез котел?»9 — он дает понять зрителям, что сосуд только что провалился в люк. Бен Джонсон писал свои пьесы преимущественно для чтения; Шекспир писал их для сцены.
Если здесь есть определенная скромность, то этой добродетели Шекспир научился рано. В конце концов, ему приходилось играть во многих дурно написанных пьесах своих современников; величайший драматург вынужден был смиряться и произносить слова, сочиненные авторами куда более слабыми, чем он сам. В одном и том же сезоне он выходил на сцену в «Короле Лире» и в «Дьявольской грамоте» Барнаби Барнса, в «Укрощении строптивой», «Комедии странствий». Этому можно приписать временами прорывавшееся недовольство выбранной профессией.
Еще одно свойство Шекспира — свободный поток мыслей. Он восхищает параллелями, двойным смыслом, противопоставлениями. Он не может постичь мысль или чувство, не рассмотрев их со всех сторон. Датский философ Серен Кьеркегор, обладавший сверхъестественным чувством стиля и интонации, возможно, лучше всего выразил это, сказав: «Искусством создания строк, выражающих страсть во всей полноте и силе воображения и в которых тем не менее можно уловить нечто противоположное, не владел ни один поэт, за исключением уникального Шекспира». Его занимают контрасты и перемены, как будто жизнь можно выразить только лишь игрой противопоставлений. Шут продолжает паясничать, когда Ромео входит в склеп Джульетты или когда Гамлет стоит у могилы Офелии. Декорации важного придворного совета быстро сменяются веселой пантомимой в таверне «Голова вепря» в Истчипе. Король и Шут вместе попадают в бурю — истинные товарищи по несчастью. Толстой полагал, что в этой сцене из «Короля Лира» отсутствует смысл, но для Шекспира смысл заключен в соседстве этих двух фигур на сцене. Лир не может существовать без Шута, равно как и Шут не может существовать без Лира. Таков дух различия и противоречий. В самых высоких образцах шекспировского искусства полностью отсутствует морализаторство. Существует лишь возвышенная человеческая воля и воображение.
Беспристрастность шекспировского гения заставляла многих критиков восемнадцатого века думать, что он сродни самой природе: он, так же как и она, равнодушен к своим созданиям. Нет оснований думать, что автора глубоко огорчила, например, смерть Дездемоны, — конечно, он был взволнован, поскольку употребил всю силу доступных ему выразительных средств. Но не тронут глубоко. Отмечали, что в тот день он был особенно весел.
Примечания
1. «Король Иоанн», акт I, сцена 1. Пер. Н. Рыковой.
2. Из письма к Ричарду Вудхаусу, 27 октября 1818 г. Пер. С. Сухарева.
3. «И лучше так, как есть... Пусть вредит, как хочет... Нет. Мне нельзя скрываться... Вы ко мне?.. Не знаете зачем?» Пер. М. Лозинского.
4. Акт V, сцена 2.
5. Акт IV, сцена 1.
6. Акт V, сцена 1.
7. Акт II, сцена 2. Пер. М. Лозинского.
8. Акт V, сцена 1. Пер. М. Лозинского.
9. Акт IV, сцена 1. Пер. М. Лозинского.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |