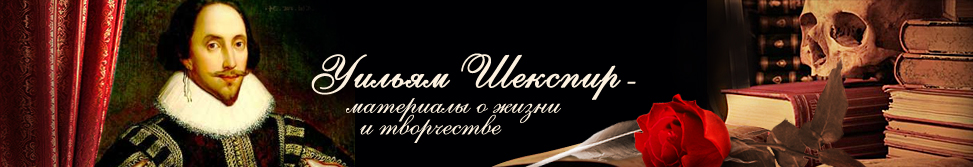Разделы
Счетчики
Перикл и Цимбелин
23 апреля 1947 года
Мы переходим к первым из четырех пьес, которые образуют заключительный период в творчестве Шекспира. В это же время он написал часть «Генриха VIII» и «Двух благородных сородичей».
Олдос Хаксли где-то высказал мысль, что было бы интересно составить антологию последних или, вернее, поздних произведений великих художников1. К ним относятся, например, «Самсон-борец» Мильтона, «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» Ибсена, последние квартеты Бетховена, «Фальстаф» Верди, поздние картины и офорты Гойи. Возраст автора здесь ни при чем. Шекспиру было только сорок пять, когда он создал «Перикла» и «Цимбелина», Бетховен умер в возрасте пятидесяти семи лет. Верди, между тем, дожил до восьмидесяти. Поздние произведения должны отличаться от остальных работ автора. Последние работы Поупа или Бена Джонсона не в счет — они не другие. Отличие не должно быть вызвано упадком творческих сил: так, Вордсворт после 1816 года написал немного стоящего. Иные, подобно Россини и Рембо, просто перестали сочинять, и у них нет «поздних» произведений. Отличие должно определяться сознательным выбором художника, который тот совершает в пору заката своего творчества, в преддверии близящейся смерти.
Для таких поздних произведений характерно, во-первых, известное безразличие автора к тому впечатлению, которое он может произвести на публику или на критиков. В них не ощущается стремление к славе, тяга к художественной изощренности или желание стяжать похвалы критиков. Поздним произведениям присуща также непрозрачность, отличная от той, что встречается в работах молодых художников. Правда, что молодому художнику часто свойственно оригинальное мировоззрение, которое представляется странным его аудитории. Кроме того, молодому художнику может не хватать технического мастерства, чтобы должным образом выразить свое мировоззрение. Он стремится шокировать публику и, таким образом, приблизиться к ней. Он стремится к популярности. В поздних же произведениях странность происходит не из врожденного, а из приобретенного видения. Элиот пишет в «Четырех квартетах»:
Дом там, откуда вышли мы. Под старость
Мир становится чуждым — все путанней образ
Умерших и живущих. И не миг впечатленья
Сам по себе, без «до» и без «после»,
Но вся жизнь, пылающая ежемгновенно,
И не жизнь одного человека,
Но жизнь древних камней с непонятными
письменами. <...>
Старикам должно пытаться,
«Здесь» и «там» — не так важно;
Мы должны быть незыблемы и незыблемо
Перемещаться в иные глубины
Для согласья грядущего и сопричастья2.
В поздних сочинениях автор часто равнодушен к тому, что шокирует публику. Речь ни в коем случае не идет об угасании художественного таланта. Сложность восприятия поздних сочинений и их необычность происходит из другого. Эта странность, зачастую намеренная, отражает безразличие автора к тому впечатлению, которое произведет его работа. В поздних творениях нет тяги к грандиозным, помпезным сценам. Но в них присутствует огромный интерес к конкретным деталям художественного мастерства, которые автор любовно обрабатывает, вне зависимости от значимости и интереса произведения в целом.
Некоторые из высочайших художественных достижений в поздних творениях обнаруживаются не в кульминационных эпизодах, а в интерлюдии, в деталях, в небольших пассажах. Эти достоинства — для истинного ценителя, они не очевидны. Например, четвертая сцена пятого акта «Цимбелина», эпизод с Юпитером, всегда шокирует почтенных критиков, которые считают его прескверным и не могут поверить, что его автор — тот самый Шекспир, который написал остальные стихи в пьесе. И все же слова, произносимые одним из духов при вознесении Юпитера, замечательны:
Пол мраморный сомкнулся. Он взлетел
Под свод лучистый. Скроемся сейчас!
Мы выполнить должны его наказ3.«Цимбелин» акт V, сцена 4.
В третьей сцене пятого акта «Цимбелина» содержится еще одна замечательная речь, длиной более пятидесяти строк, — ее часто выпускают театральные постановщики. В ней рассказывается, как сражались, воодушевляя британцев, Беларий и два королевича.
Да, эти трое стоили трех тысяч.
Три смельчака таких в бою дороже,
Чем рать бездельников. И с криком «Стой!»,
Проходом узким пользуясь искусно,
Еще искусней доблестью своей,
Способной прялку превратить в копье, —
Они зажгли огонь в погасших взорах;
Проснулся у бегущих стыд, а с ним
И мужество вернулось и отвага;
И те, кто струсил, глядя на других
(Будь проклят тот, кто первым дрогнет в битве!).
Вернулись вновь и бросились, как львы,
На вражьи копья. Дрогнул неприятель,
Нарушил строй, и началось смятенье;
И те, кто прежде шли вперед орлами,
Теперь назад бежали, как цыплята.
Переменилось все в одно мгновенье —
Вдруг стали победители рабами.
К сердцам бегущих отыскал дорогу
Зов, брошенный им вслед, и трус недавний,
Воспрянув духом, стал полезен нам,
Как иногда сухарь в походе тяжком.
О небо! Как ударили британцы
На мертвых, раненых, живых, своих же,
Напором смятых! Если раньше десять
От одного бежали, то теперь
Один гнал двадцать. Кто предпочитал
Погибнуть, но не драться, тот теперь
Был для врага грозой.«Цимбелин», акт IV, сцена 3.
Достоинства этих строк не бросаются в глаза, но всякий, кто упражняется в стихотворчестве, возвращается к таким отрывкам снова и снова — чаще, чем к величественным сценам. В них во всем блеске проявляется мастерство художника, приложенное к незначительному по содержанию эпизоду, и человек, стремящийся овладеть поэтическим ремеслом, может научиться писать, изучая эти строки.
В поздних пьесах Шекспира действие не связано с реальным миром времени и пространства. Сцены узнавания фантастичны. В «Перикле» несколько кораблекрушений, в «Цимбелине» — персонажи скрываются под чужими именами. Шекспир обращается к самой примитивной драматической форме — хору, пантомиме и театру масок. Можно вообразить современного писателя, который, овладев сложными формами, принимается за повести о Диком Западе. В рассматриваемых пьесах широко используются трюки, реплики и т. д. Поздние сочинения предназначены для людей очень простых или же для самых рафинированных интеллектуалов, но не для обывателей, даже не для аристократов среди обывателей, вроде доктора Джонсона. Критикам сложно оценить наслаждение писателя, прибегающего к самой простой форме, например, к эпизоду с масками в «Цимбелине».
Первые два акта «Перикла», их стихотворная часть, заставляют усомниться, что их автор — Шекспир, хотя к монологам Гауэра это не относится. В «Перикле» очень мало «комедии», того, что может рассмешить. Тема пьесы, главным образом, — страдание, разве что в финале горе перерастает в радость благодаря памяти о перенесенных страданиях, в противоположность «Nessun maggior dolore» Франчески в «Аде» Данте: «Тот страждет высшей мукой, / Кто радостные помнит времена / В несчастии»4. Физические страдания, насилие, бури в этих пьесах нереалистичны. Голова и туловище Клотена ужасали бы в «Лире», но не здесь. Страдания персонажей — душевные. Физический облик не представляет важности. Профессиональным актерам тяжело играть в этих пьесах, так как актеров и актрис трудно заставить забыть о публике. Роли в «Перикле» и «Цимбелине» надлежит исполнять в совершенной самоуглубленности, не думая о публике. «Перикл» и «Цимбелин» более других шекспировских пьес страдают от того, что женские роли исполняют женщины. Великие актеры и актрисы эти пьесы погубят. Лучше всего, чтобы в них играла труппа школьников под руководством режиссера, похожего на Свенгали5.
В раннем эссе о Данте Томас Элиот утверждает, что «Шекспир создает персонажа, по-видимому, находящегося во власти простого чувства и анализирует самого персонажа и его эмоции. <... > Данте, с другой стороны, не столько сосредоточивается на исследовании чувства, сколько показывает таковое в отношении к другим чувствам»6. Это справедливо в отношении творчества Шекспира вплоть до последних пьес, но в них он обращается к исследованию отношений и, в итоге, приходит к созданию сказочных сюжетов. Жил да был король с королевой, и была у них прекрасная дочь, жил да был углежог с тремя сыновьями и т. д. В сказках людей определяют отношения. Не просто мистер Джонс, миссис Робинсон, но — сын, дочь. В ранних пьесах Шекспира личность находится во власти страстного, гибельного чувства, а сюжет призван раскрыть индивидуальность персонажа. Сюжет и отношения между людьми в пьесе определяются естеством персонажей, и в конце пьесы один персонаж отличается от других гораздо более полно, чем в ее начале. В поздних пьесах личность всецело определяется отношениями. Говорить можно не о хороших и дурных людях, а лишь о хороших и дурных отношениях, сюжет же представляет собой узор из таких отношений. Люди в поздних пьесах не обладают, как некогда, личностным своеобразием, — они лишь создают фон. Сравните Отелло и Постума. Ревность Отелло — следствие его личных качеств и его любви к Дездемоне. Вырвавшись на свободу, бешеная ревность Отелло ведет его к гибели. Но невозможно вообразить себе Постума, не думая одновременно об Имогене. Они — муж и жена, и ревность лишь одна из многочисленных нитей в сюжете. Мы не имеем ни малейшего представления о том, какими бы были Постум и Имогена вне брака.
Куда заводят персонажей их отношения? Люди могут быть разлучены по прихоти судьбы, подобно Периклу, Таисе и Марине, в результате изгнания, как Постум и Беларий, в результате похищения, как Гвидерий и Арвираг. Людей может разлучить смерть, хотя их отношения при этом могут не прерваться. Иногда люди неверно истолковывают природу отношений — Имогена подозревает Пизанио; Имогена и ее братья поначалу не осознают природу связывающих их уз. Любовь может повернуть вспять: вспомним, например, отношение Диониссы к Марине или Постума к Имогене. А враждебность может смениться благожелательностью через раскаяние и прощение, как в случае с Постумом и Якимо. Данте разъясняет в «Чистилище», что всякие отношения между людьми имеют в основе какую-то из разновидностей любви, так как любовь — движущая сила всех человеческих поступков7. Если эти поступки дурные, значит, лежащая в их основе любовь чрезмерна, ущербна или извращена, — так, желание причинить вред ближнему предполагает избыточную любовь к самому себе.
Отношения можно испытать во времени и в пространстве. Реальное время не имеет значения. Море и бордель в «Перикле», дикий Уэльс и тюрьма в «Цимбелине» — здесь люди проходят через испытания и постигают природу отношений. Цель пьес — показать, что все отношения между людьми должны основываться на любви. Для тех, кто вынужден пересмотреть или изменить свои отношения с другими, существует два выхода. Первый выход — смерть. Умирают Антиох, его дочь, Клеон, Дионисса, королева, Клотен. Смерть здесь следует воспринимать не как событие, а как возможность устранения непримиримых противоречий. Или же отношения могут измениться через раскаяние, как в случае с Лизимахом, Постумом, Якимо. В пьесах сохранено равновесие между разновидностями «хороших» и «дурных» отношений.
В «Перикле» мы находим два примера дурных отношений между родителями и детьми: вспомним Антиоха и его дочь, а также Диониссу и ее дочь. Антиох, состоящий в кровосмесительной связи с собственной дочерью, являет пример извращенных семейных отношений, которые не позволяют дочери выйти замуж. Они оба, отец и дочь, должны погибнуть. Отношения между Диониссой и Филотеной зиждятся на чрезмерной любви, при этом Дионисса ревнует к Марине за то, что та вызывает всеобщую любовь. Клеон чувствует свою вину, но не в силах противостоять Диониссе, которая считает свои поступки: «Подвигом великим / Для счастья нашей дочери!» («Перикл», IV, 3).
Клеон
Ты — гарпия с орлиными когтями
И ангельским лицом!Дионисса
А ты, голубчик,
Жалеть способен и мышей, и мух,
Но и к моим советам ты не глух...8.«Перикл» акт IV, сцена 3.
В «Цимбелине» дурные отношения, проистекающие из чрезмерной любви, очевидны на примере королевы и Клотена. Королева испортила Клотена, воспитав его эгоистичным невежей, и он ненавидит Имогену и Постума за то, что они любят друг друга. Отношения между Цимбелином и его дочерью — пример ущербной любви, которая, в свою очередь, объясняется чрезмерной любовью Цимбелина к королеве. Он упрекает Имогену за брак с Постумом:
Цимбелин
Ты, лживая преступница! Могла бы
Ты молодость мою вернуть — так нет,
Меня ты на год старишь.Имогена
Государь,
Себе волненьем злобным не вредите.
Ваш гнев меня не тронет. Скорбь во мне
Убила страх и совести укоры.Цимбелин
И послушанье? Кротость?Имогена
Тем, кто был
Лишен надежды, чуждо послушанье.Цимбелин
Принц должен был твоим супругом стать!Имогена
И счастье, что не стал. Орла избрав,
Я коршуна отвергла.«Цимбелин» акт IV, сцена 3.
Дурным отношениям Цимбелина и Имогены можно противопоставить добрые отношения между Симонидом и Таисой: пентаполисский царь Симонид позволяет Таисе обручиться с Периклом.
Отношения Белария с Арвирагом и Гвидерием можно противопоставить отношениям между королевой и Клотеном. Беларий воспитывает в мальчиках благочестие и учтивость. Выходя из пещеры, он наставляет их почитать Бога:
День слишком ясен, чтоб сидеть под крышей
Столь низкой. Сыновья мои, нагнитесь.
Вас учит этот вход склонять главу
Пред небесами в утренней молитве.«Цимбелин» акт III, сцена 3.
Позже он велит им с почестями похоронить Клотена:
В могиле нищий и вельможа равны,
Но долг почтенья, суетный, как мир,
Предать земле по-разному велит их.
Раз Клотен — принц, хоть он убит, как враг,
Должны мы схоронить его, как принца.«Цимбелин», акт IV, сцена 2.
Шекспир также противопоставляет дурные и хорошие отношения между мужем и женой. Клеоном верховодит его жена, Цимбелином — королева. В конце пьесы Цимбелин признает, что всецело зависел от королевы:
Мой взор винить нельзя —
Она была прекрасна. Невиновен
И слух, плененный льстивостью ее,
И сердце, верившее ей во всем, —
Преступным было бы не верить ей.«Цимбелин», акт V, сцена 5.
Чувство Клотена к Имогене разительно отличается от чувства Имогены к Постуму. Характер Клотена формировался под развращающим влиянием королевы. Чувство Клотена к Имогене эгоистично, и когда его отвергают, оно оборачивается ненавистью. Он клянется овладеть Имогеной, переодевшись в одежду Постума:
- Она сказала — до сих пор у меня от этих слов сердце желчью исходит! — что обноски Постума ей дороже моей светлейшей особы, украшенной всеми моими достоинствами. Так вот в этих обносках Постума я насильно овладею ею, но прежде на ее глазах убью его. Вот тут-то она и увидит мою доблесть и раскается в своем высокомерии. Он будет повержен в прах, я надругаюсь над его трупом, а затем утолю свою страсть, но, чтобы еще сильнее поиздеваться над красавицей, проделаю все это в платье, которое она так высоко оценила. А потом пинками погоню ее обратно домой! Тебе доставляло удовольствие презирать меня, а мне радостно будет отомстить тебе.
«Цимбелин», акт III, сцена 5.
Сравните с самоотверженной любовью Имогены к Постуму. Прощаясь с Постумом, она клянется ему в абсолютной верности и хранит ее до конца. Она страстно допрашивает Пизанио о том, как выглядел и что делал Постум отплывая из Мильфордской гавани:
Имогена
Какое слово
Последним он сказал?Пизанио
«Моя принцесса»Имогена
Махал платком он?Пизанио
Да, его целуя.Имогена
Бездушный холст счастливее меня!
И это все?Пизанио
Нет, госпожа. Пока
Я мог средь прочих различать его,
На палубе стоял он и махал
Платком своим, перчаткой или шляпой,
И по его волненью было видно,
Что так же рвался он душой назад,
Как несся вдаль корабль.Имогена
Ты должен был
Глаз не сводить с него, пока не стал бы
Он меньше ворона.Пизанио
Я так и сделал.Имогена
А я — я проглядела бы глаза,
А все следила бы за тем, как он
Становится все меньше, меньше, меньше
И тоньше кончика моей иглы;
Покуда он совсем бы не исчез,
Как мошка в воздухе; тогда лишь взор,
Рыдая, отвела бы.«Цимбелин» акт I, сцена 3.
Эта сцена несколько напоминает допрос, который Клеопатра учинила Алексасу после отплытия Антония в Рим («Антоний и Клеопатра», I. 5). Узнав о ревности Постума, Имогена восклицает:
Я — неверна?.. Что значит быть неверной?
Лежать без сна и думать о любимом
И плакать без конца? Глаза смежить,
Когда над горем верх возьмет усталость,
И тотчас в страшном сне его увидеть
И с криком пробудиться? Это значит
Неверной быть?«Цимбелин» акт III, сцена 4.
В приступе гнева Имогене видится, что Постума совратила какая-то «римская сорока, распутница из Рима» («Цимбелин», III. 4). Но несмотря на все она не перестает любить Постума и обращается к нему с нежнейшим из упреков:
В богатстве лгать постыдней, чем в нужде:
Ложь королей гнусней, чем ложь бездомных.И ты солгал, супруг мой дорогой! «Цимбелин» акт III, сцена б.
Когда Постум ударил ее, она произносит простые слова:
Зачем ты оттолкнул свою жену?
Представь, что мы с тобою на скале,
И вновь толкни меня.Обнимает его.
«Цимбелин» акт V, сцена 5.
Изменения претерпевает и природа влюбленных мужчин — Лизимаха и Постума (персонажа гораздо более сложного). Лизимах приходит в бордель и требует, чтобы ему доставили девственниц. Марина будит в нем совесть, и из персонажа, похожего на Клотена, он становится человеком, достойным стать мужем Марины. Когда мы впервые видим Постума, он влюблен. Обмениваясь перед разлукой знаками любви с Имогеной, он говорит:
Прекрасная моя!
Когда свою ничтожность дал в обмен
Я за любовь твою, неисчислимый
Убыток понесла ты, — так и ныне
Я выгадал, подарками меняясь.«Цимбелин», акт I, сцена 1.
Но на поверку Постум оказывается дико ревнивым:
Я растерзать готов ее сейчас!
Туда отправлюсь. Там покончу с ней
Я на глазах ее отца... Так будет...
Уходит.
«Цимбелин» акт II, сцена 4.
Здесь Постум очень похож на Клотена: он хочет уничтожить Имогену. Уверовав, что она мертва, он раскаивается, хотя по-прежнему убежден в ее измене:
Нет, мой Пизанио,
Не все приказы нужно выполнять,
А только справедливые.«Цимбелин» акт V, сцена 1.
Он продолжает верить, что убил Имогену, и не чувствует в себе сил сражаться против британцев. Заключенный в темницу, он желает смерти:
Отрадней каяться в цепях желанных,
А не надетых на тебя насильно.
Возьмите жизнь в расплату за свободу!
Я знаю, вы добрей ростовщиков,
Берущих с должников в уплату долга
Лишь четверть, треть или шестую часть.
Чтоб те могли, дела свои поправив,
Платить им вновь. Мне этого не нужно!
За Имогены жизнь — мою возьмите;
Она хоть и не так ценна, но все же
Дана мне вами, боги. Человек
Не взвешивает каждую монету
И легкую берет, чеканке веря;
Возьмите жизнь мою — я ваш чекан,
О всеблагие силы! Если вы
С таким согласны счетом — рад я жизнью
Свой долг вам уплатить.«Цимбелин» акт V, сцена 4.
В конце, в сцене воссоединения с Имогеной, она обнимает его, и он восклицает:
Пока я жив —
Как плод на дереве, держись на мне.«Цимбелин», акт V, сцена 5.
В «Перикле» и «Цимбелине» Шекспир также противопоставляет разные типы отношений между хозяевами и слугами. В «Перикле» примером извращенной преданности служат отношения между Тальярдом и Антиохом, а также Леонином и Диониссой. Когда Леонин сообщает, что поклялся Диониссе убить Марину, Марина спрашивает:
Что совершила я? Какая польза
Ей от того, что буду я убита?
Чем я опасна ей?Леонин
Мне приказали
Не рассуждать, а действовать, и быстро.Марина
Нет! Ни за что на свете не поверю,
Что ты способен это сделать! Нет!
Заметно по лицу, что ты хороший
И добрый человек. Совсем недавно
Я видела, как ты, рискуя жизнью,
Дерущихся разнял: стремился ты
Слабейшего спасти. Так повтори же
Поступок этот.«Перикл», акт IV, сцена 1.
Леониду и Тальярду противостоят добрые слуги — Геликан в «Перикле» и Пизанио в «Цимбелине». Когда Пизанио раскрывает Имогене приказ, данный ему Постумом, она восклицает:
Скорей! Торопит мясника ягненок;
Где нож твой? Медлишь ты приказ исполнить,
Желанный для меня.Пизанио
О госпожа,
Я, получив приказ, лишился сна.Имогена
Исполни — и заснешь.Пизанио
Пускай я раньше От бдения ослепну.Имогена
Так зачем же
Ты взялся выполнить его? Зачем
За столько миль завез меня обманом?
Зачем мы здесь в столь поздний час? Зачем
Ты так старался? Лошадей загнал?
И взволновал моей отлучкой двор,
Куда я больше не вернусь? Зачем,
Настигнув лань, ты тетиву ослабил?
Пизанио отвечает:
Чтобы, подольше время оттянув,
Уйти от злого дела.«Цимбелин» акт III, сцена 4.
Шекспир исследует отношение людей к своим ближним и в свете их профессии. Цель благородной профессии Церимона из Эфеса в «Перикле» и Корнелия в «Цимбелине» — врачевать. Церимон говорит:
Всегда ценил я ум и добродетель
Превыше знатности и состоянья:
Наследник беззаботный расточает
Богатство и свою позорит знатность.
А ум и добродетель человека
Богам бессмертным могут уподобить.
Давно уж я упорно изучаю
Науку врачеванья; в мудрых книгах
Я черпал знанья и в искусстве тайном
Немало изощрялся, чтоб постичь
Целебные таинственные свойства
Растений, и металлов, и камней;
Я изучил, что может вызывать
Расстройства организма или снова
Их устранять. И большую отраду
Занятья эти доставляют мне,
Чем преходящих почестей восторги
И накопленье праздное сокровищ —
Глупцам на радость, смерти на забаву.«Перикл» акт III, сцена 2.
Корнелий, обманывая королеву в «Цимбелине», исходит из схожих принципов — профессия обязывает его лечить людей. Церимона и Корнелия можно противопоставить Засову и сводне из «Перикла» — эти последние несут людям болезни. Сводня говорит: «Никогда еще у нас такого не бывало! Только и есть, что три несчастных твари. Ну куда им управиться! Они так умаялись, что просто никуда не годятся!» («Перикл», IV. 2). Сводник вспоминает: «Помнишь бедного трансильванца, что переспал с нашей малюткой? Он ведь помер». «Да, быстро она его доканала!» («Перикл», IV. 2) — отвечает Засов.
В «Перикле» очевиден контраст между бедными, трудолюбивыми рыбаками и представителями благородного сословия:
- Третий рыбак
Дивлюсь я, хозяин, как это рыбы живут в море!Первый рыбак
Да живут они точно так же, как и люди на суше: большие поедают маленьких. Посмотри, например, на богатого скрягу: чем не кит? Играет, кувыркается, гонит мелкую рыбешку, а потом откроет пасть и всех их, бедненьких, одним глотком и сожрет. Да и на суше немало таких китов: откроет пасть и целый приход слопает, да и церковь с колокольней в придачу...Перикл
В сторону.
Послушаешь — есть чему поучиться.Третий рыбак
А все-таки, хозяин, будь я звонарем, я бы не прочь оказаться на колокольне как раз в тот день, когда кит ее слопает.Второй рыбак
Это почему же?Третий рыбак
А потому, что тогда киту пришлось бы и меня проглотить, а уж я, только окажись в его брюхе, поднял бы такой трезвон, что не дал бы киту и минуты покоя, пока он не отрыгнул бы и колокола, и колокольню, и церковь, и весь приход. Эх, кабы добрый наш царь Симонид со мной согласился...Перикл
В сторону. Симонид?Третий рыбак
Мы очистили бы страну от трутней, крадущих мед у трудолюбивых пчел.Перикл
В сторону.
О рыбах рассуждая, люди эти
О человеческих пороках судят.
В подводном царстве, как и на земле,
Есть представленье о добре и зле.Громко.
Мир труженикам, честным рыбакам!«Перикл», акт II, сцена 1.
Рыбаки добродетельны, потому что трудом добывают хлеб насущный и еще потому, что плоды их труда зримы.
Особое место в этой галерее персонажей занимает Якимо. Его беда не в ущербной любви к ближнему, а в отсутствии определенности в отношениях с самим собой. Вспомните других мерзавцев у Шекспира, — того же Яго: они точно знают, чего хотят и с самого начала приступают к осуществлению злодейских замыслов. Якимо не стремится убивать, он хочет выглядеть щеголем. Он изъясняется настолько туманно, что никто его не понимает. Больше всего он похож на Армадо из «Бесплодных усилий любви». Пытаясь соблазнить Имогену, он выражается так неясно, что ей приходится спросить: «Но что / Так удивляет вас?.. Что с вами? / Вы не больны?» («Цимбелин», I. 6). Якимо страдает глоссолалией — признак того, что он неспособен установить отношения ни с другими людьми, ни с самим собой. В финале пьесы, уже раскаявшись и намереваясь признать свою вину, он говорит так путано и сложно, что Цимбелин восклицает: «Скорее к делу! / Я словно на горячих углях... Ближе, ближе к делу» («Цимбелин», V. 5). Когда Якимо, наконец, молит о прощении, мы чувствуем, что он изменился, потому что изменилась его речь. Постум говорит, что победил его в битве и «мог убить» («Цимбелин», V. 5), и Якимо, опускаясь на колени, отвечает:
Я вновь у ног твоих.
Теперь меня повергла наземь совесть,
Как прежде мощь твоя.«Цимбелин» акт V, сцена 5.
Якимо предлагает Постуму пари только потому что у него нет отношений с другими, нет личности. С другими его связывает случай и разве что дух соперничества. Он хочет выиграть пари и поэтому лжет, навлекая беду, хотя и не получает от этого удовлетворения, — он ничтожен и несчастлив.
Все в этих пьесах обращено к финальной сцене, в которой происходит примирение. События прошлого придают сцене примирения особую выразительность. Дурные отношения становятся хорошими, или, скажем по другому, благодаря перенесенным страданиям люди начинают больше дорожить отношениями. Любовь Перикла к Марине объемлет целый мир:
Перикл
О блаженство!
Но почему я так одет ужасно?
Подать мне платье! — Дочь моя Марина,
Пусть небеса тебя благословят. —
Я слышу звуки дивные. — Марина!
Все расскажи подробно Геликану.
Мне кажется, еще в сомненье он,
Что подлинно ты дочь моя. — Послушай:
Откуда эта музыка опять?Геликан
Я ничего не слышу, государь.Перикл
Ты музыки небесных сфер не слышишь. —
А ты, Марина, слышишь?Лизимах
Говорите,
Что слышите; нельзя ему перечить.Перикл
О звуки дивные!
Лизимаху.
Ты слышишь их?
Музыка.Лизимах
Отлично слышу, государь.«Перикл», акт V, сцена 1.
В «Цимбелине» Постум говорит Якимо, своему врагу.
Не склоняй колен.
Я властен лишь прощать и зло забыть.
Вся месть моя — прощение. Живи
И стань честней!«Цимбелин», акт V, сцена 5.
А Цимбелин заключает:
Достойные слова!
Великодушию насучит зять.
Прощенье всем!«Цимбелин», акт V, сцена 5.
«Прощенье всем!» — вот лейтмотив поздних пьес Шекспира, струна, звучащая в каждой из них. Персонажи здесь — не обособленные личности, они не вызывают симпатии, как Беатриче и Розалинда, и не ужасают, как заключенные в темницу себялюбия герои трагедий. Но, подобно сказке, этот мир таков, каким мы хотели бы его видеть, и от этого слезы подступают к горлу.
Примечания
1. О. Хаксли, предисловие к «Полному собранию офортов Гойи».
2. Т.С. Элиот, «Четыре квартета»: «Ист Коукер», 5. Перевод С.А. Степанова.
3. Здесь и далее цитаты из «Цимбелина» — в переводе П.В. Мелковой.
4. «Ад», песнь V, 121—123.
5. Свенгали — зловещий гипнотизер, герой романа Джорджа дю Морье «Трильби».
6. Т.С. Элиот, «Священный лес» («Избранные эссе»).
7. См. «Чистилище», песнь XVII.
8. Здесь и далее цитаты из «Перикла» — в переводе Т.Г. Гнедич.
Примечания составителя
Лекция восстановлена по записям Ансена, Гриффина и Лоуэнстайн.
...для аристократов среди обывателей, вроде доктора Джонсона. — Джонсон писал о «Цимбелине»: «Отмечать глупость этого сочинения, абсурдность поведения действующих лиц, смешение в нем имен и манер разных эпох, невозможность описываемых событий при любых жизненных обстоятельствах — означало бы растрачивать критические стрелы на беззащитное тупоумие, на ошибки слишком очевидные, чтобы их изобличать, и слишком тяжелые, чтобы о них стоило говорить». См. «Джонсон о Шекспире» (Johnson on Shakespeare, London: Oxford University Press, 1946), c. 183.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |