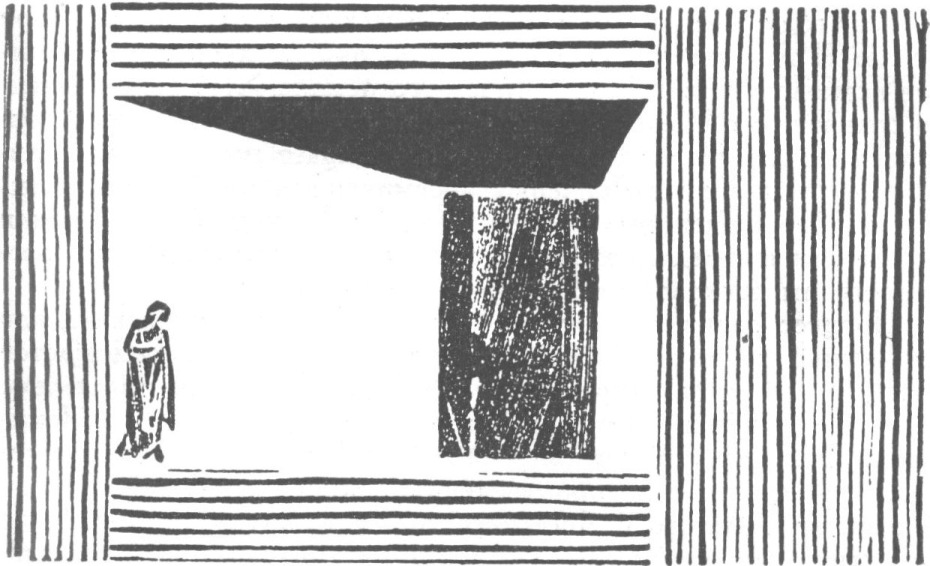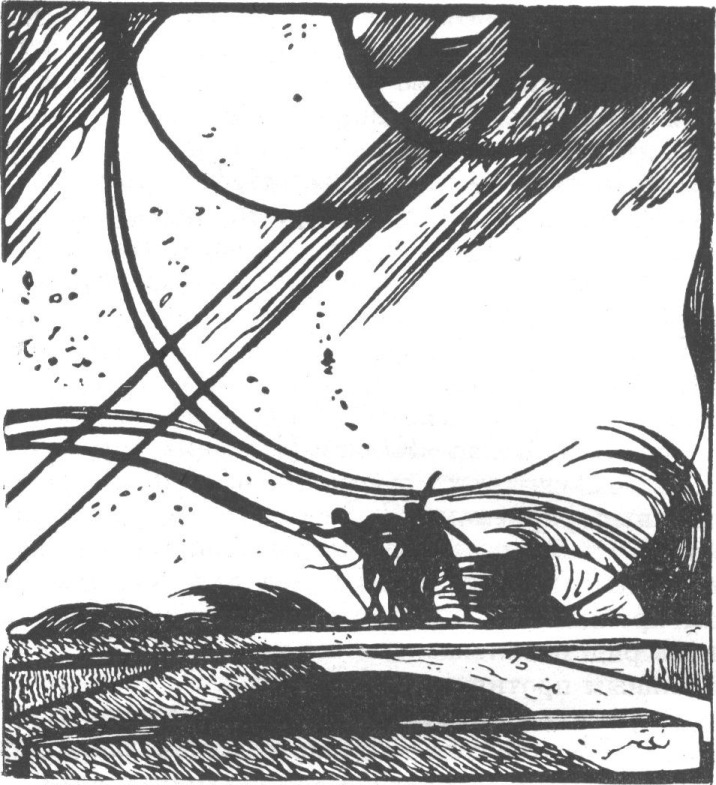Разделы
Счетчики
Глава четвертая. Театральность и правда
«Страдания выражать надо так, как они выражаются в жизни, т. е. не ногами и не руками, а тоном, взглядом; не жестикуляцией, а грацией... Вы скажете: условия сцены. Никакие условия не допускают лжи».
А.П. Чехов, 1900
«...В Шекспире есть целые полосы, которых истинный актер Художественного театра не умеет произносить. Может быть, потому, что и не хочет уметь».
Вл.И. Немирович-Данченко, 1940
1
«Появление в трагедиях Шекспира духов и привидений дает любопытное указание на то, каким образом эти трагедии должны быть поставлены», — утверждал Гордон Крэг в одной из своих статей, написанных в 1910 году, то есть в период работы над «Гамлетом» в МХТ. По Крэгу, духи и привидения, эти «видимые символы сверхъестественного мира, который окружает естественный», дают тон как в музыке, сообщают основное звучание произведению, и смысл и величие Шекспира, по сравнению с его современниками, будто бы и состоит во влиянии духов, которое «чувствуется даже когда оно невидимо, неосязаемо... и тем не менее существует, как преобладающая сила, иногда злая, иногда благотворная».
Для Крэга Шекспир полон таинственного, рокового, сверхъестественного начала, и уже самый факт присутствия духов «исключает реальное толкование трагедий, в которых они появляются».
«...Разберите такие трагедии, как «Гамлет», «Макбет», «Ричард III». Что придает им эту великую тайну и ужас, которые возвышают их над обыкновенными трагедиями честолюбия, убийства, сумасшествия и гибели?
Не сверхъестественный ли элемент, который господствует над всем действием с начала до конца? Это соединение материального с мистическим; это чувство присутствия образов, неосязаемых, как смерть»1, — восклицал Крэг.
Для Крэга в «Гамлете», так же как и в «Макбете», над которым он работал в 1908—1909 годах, было характерно стремление воплотить на сцене «невидимые силы», роковым образом предопределяющие судьбу человека.
В одной из своих статей Крэг писал: «Я расширяю свою постановку, распространяя ее не только вне пределов пьесы, но даже вплоть до тех широких взмахов мысли, которые вызваны во мне пьесой или даже другими пьесами того же автора. Например: соотношение «Гамлета» и «Макбета» — очень тесное, Одна пьеса может влиять на другую»2.
Когда Крэг начал работать над «Гамлетом» в МХТ, у него были уже сделаны эскизы к «Макбету», которые он показывал Станиславскому, объясняя принципы своих исканий3. Но он продолжал еще заниматься «Макбетом» и в то время, когда непосредственно приступил к созданию режиссерского плана и макетов к «Гамлету». Таким образом, работа над этими произведениями проводилась Крэгом почти одновременно, и их постановочные планы обладали общими чертами, характерными для крэговского подхода к Шекспиру: показать на сцене ирреальный, «невидимый» мир, не имеющий ничего общего с реалистическим показом действительности, раскрыть таинственное и мистическое в произведениях Шекспира.
«Если режиссер сосредоточит свое внимание и внимание зрителей только на видимых скоропреходящих вещах, тогда... драма утрачивает половину своего величия и теряет всякое значение», — утверждал Крэг в своей статье «О привидениях», основываясь уже на опыте проделанной им работы над «Гамлетом» и «Макбетом», где «незримые силы» — духи, на которые Шекспир «так любит всегда намекать, стоят за каждым земным существом, возбуждают его и подвигают очевидно на все великие деяния — на добрые или злые». Не случайно, что, пытаясь подчеркнуть значение таинственного «невидимого» мира в шекспировских трагедиях, Крэг ссылается на Метерлинка. Он считал необходимым, чтобы режиссерское толкование раскрывало в «Короле Лире», «Макбете», «Гамлете» тот «шепот вечности на горизонте», воплотить который стремился в своих драмах Метерлинк. По существу, в духе метерлинковских драм и истолковывал Крэг суровый и полнокровный реалистический мир образов Шекспира.
Для Крэга чрезвычайно характерно, что он начинал «Гамлета» не с диалога Бернардо и Франсиско, а с молчаливого появления духа, который сразу же, с первого мгновения, должен был создать мистическое настроение, будучи как бы «вводом» в трагедию. Режиссерское искусство Крэга в этой сцене было направлено прежде всего на создание таинственной и мрачной атмосферы. В одной из рецензий после премьеры «Гамлета» в МХТ мы читаем следующее описание первой картины: «...зритель получал впечатление пустынной, жуткой местности, где воздух насыщен таинственными видениями, призраками, живущими здесь своею жизнью, — крэговские «ширмы» с их зияющими просветами как нельзя лучше способствуют этому впечатлению. И в этой тени, серой, как «ширмы», чувствуется что-то «потустороннее», и этот порыв урагана, предшествующий ее появлению, обдает трепетом». По словам Станиславского, мистикой была «проникнута с самого поднятия занавеса вся первая картина... Какие-то непонятные подземные звуки, гулы, хоры в зловещих тональностях; звуки поющих голосов переплетаются с подземными ударами, стуками, со свистом ветра, непонятным отдаленным стоном. От серых ширм, изображающих дворцовые стены, отделяется тень отца, блуждающего потихоньку в поисках Гамлета. Он едва заметен, так как костюм его сливается с тоном сцены. Минутами тень словно рассеивается, потом, попадая в полутон света прожектора, снова появляется на фоне ширм, с маской на лице, передающей невыносимые страдания, муки от пыток. Длинный плащ волочится за ним. Оклики сторожей пугают тень, она точно входит в поры стен и исчезает в них»4.
Крэг считал необходимым, чтобы зритель поверил в то, что перед ним действительно «дух», а не просто театральный трюк. «Повторяю, — неоднократно восклицал Крэг, хватаясь за свои длинные волосы и с отчаянием откидываясь назад, — это очень важная и трудная роль, так как он должен изобразить человечную фигуру и быть нечеловечным в этом реальном образе», — так описывает Станиславский эти поиски, замечая, что в стремлении найти средства заставить зрителя ощутить «трагизм мертвеца реальными впечатлениями» Крэг зачастую впадал в «ультрареализм» и с его помощью пытался «дойти до отвлеченности»5.
Крэг не раз рисовал эскизы костюма духа отца Гамлета, но они, по его словам, долго не удовлетворяли его, так как ему не удавалось воплотить в них то, что мысленно виделось. В числе рисунков и вырезанных деревянных фигурок, с помощью которых Крэг пояснял свой замысел режиссуре МХТ, показывая на макете размещение и передвижение персонажей, была и фигурка Призрака. Вскоре после премьеры спектакля Художественного театра Крэг получил от немецкого «мецената» графа Кесслера предложение использовать эскизы мизансцен и персонажей, сделанные в связи с постановкой «Гамлета», в качестве иллюстраций для издания этой трагедии Шекспира. Книга им была выпущена лишь много лет спустя, но к выполнению заказа Крэг приступил немедленно6. Уже летом 1912 года в числе подготовленных им гравюр на дереве было и изображение Призрака, основой для которого послужили наброски, сделанные им в 1910 году в процессе работы над «Гамлетом» в МХТ. На этой гравюре Крэг изобразил высокую, удлиненную фигуру с маской в виде черепа, закутанную в длинную, спадающую до пят одежду, похожую на саван. Торчащими обломками костей, заменяющих ей руки, она натягивает край плаща, чтобы прикрыть нижнюю часть своего «лица»; складки одежды драпируются на груди фигуры округлыми линиями, напоминая обнаженные ребра скелета.
В беседах со Станиславским о «Гамлете» Крэг говорил, что на Призраке не должно быть никаких доспехов, солдатам лишь кажется, что они их видят («...я думаю, что это блестят кости, на которые падает свет»). Крэгу хотелось, чтобы Призрак внушал одновременно и ужас и жалость. Он должен был быть «живым» в том смысле, как в старой живописи в «плясках смерти, где танцуют кости и полувысохшее мясо, куски мяса, но он жив. И особенно ужас должен быть именно в том, что эти остатки костей и мяса испытывают такую нежность к «Гамлету»7. В спектакле МХТ роль духа отца Гамлета исполнял Н.А. Знаменский. Он был одет в длинный серый саван, который, как шлейф, волочился за ним.
Объясняя Станиславскому в 1909 году свой план постановки «Гамлета», Крэг хотел добиться постоянного напоминания зрителю о присутствии духов, сопровождающих весь ход трагедии. Ему было очень важно, чтобы впечатление, полученное от духа в первых сценах, не рассеивалось, а поддерживалось бы в течение всего спектакля. Это могли быть «видения», мучающие Гамлета, — сцена убийства его отца, погребальная процессия на кладбище и др. Они должны были возникать как бы «во сне», при помощи игры света и теней на одной из ширм или, может быть, где-то в отдалении, за тюлем.
Шекспировскую трагедию о Гамлете Крэг называл «мистерией». Дух отца Гамлета должен был начинать пьесу, а Фортинбрас, трактованный Крэгом как небожитель, как архангел, спустившийся с небес, чтобы принять душу Гамлета, должен был придать финалу спектакля впечатление неземного, таинственного и чудесного события. В 1910 году, во время подготовительных работ над костюмами к «Гамлету», Крэг говорил, что не только сам Фортинбрас, но и окружающие его солдаты «должны напоминать архангелов, а финал пьесы — страшный суд»8. В одном из писем Станиславскому Крэг признавался: «...мне кажется, что для последней картины я нашел нечто замечательное, что создает впечатление грандиозности мироздания в сравнении с жизнью и смертью одного человека»9.
Крэговские идеи, определившие ирреальную трактовку Шекспира, оказали впоследствии влияние на экспрессионистический театр, где «мистическое» и «роковое» тоже являлось одной из характерных особенностей трагического. Не случайно, что и Вс.Э. Мейерхольд в дореволюционные годы выступал пропагандистом этих идей Крэга. Как вспоминает художник А.В. Рыков, присутствовавший на занятиях в Студии на Бородинской, Мейерхольд на одной из репетиций пантомимы «Сумасшествие Офелии» говорил, что надо создать ощущение «невидимой нити», как бы связывающей участников трагедии с «потусторонним миром», дать почувствовать зрителю, что «тень убитого короля, отца Гамлета, невидимо присутствует на сцене не только тогда, когда ее показывает Шекспир, но и в других местах, местах наибольшего драматического напряжения»10. Точка зрения Крэга на роль привидений в трагедиях Шекспира была выражена здесь со всей определенностью.
Вся трагедия в целом трактовалась Крэгом как апофеоз смерти, смерти, освобождающей человека от земного томления, от реальности существования, дающей «жизнь вечную». Эта воинствующая идея жизнеотрицания получила наиболее яркое воплощение в постановочном плане Крэга в сцене «Быть или не быть», проникнутой, по словам Станиславского, «жутким мистицизмом». Как уже упоминалось, Крэг хотел вывести в этой сцене символическую фигуру Смерти, вестницы «невидимого мира», являющуюся как бы проекцией сознания Гамлета, его мечтой. Крэг придавал этой фигуре особое значение и смысл, однако она все же не была введена в постановку МХТ.
«Мне все представляется, даже снилось несколько раз, что во время монологов Гамлета к нему подходит какая-то... светлая золотящаяся фигура», — делился Крэг своими мыслями со Станиславским. «Весь смысл пьесы — это борьба духа с материей, невозможность их слияния. Одиночество духа среди материи. И я думаю, что фигура эта, представляющаяся мне около Гамлета, есть смерть. Но не мрачная, тяжелая, как она обыкновенно представляется людям, а как она представляется Гамлету — светлая, радостная, освобождающая из трагического положения»11. Крэг истолковывает сцену «Быть или не быть», как своеобразный дуэт Гамлета и Смерти, совсем не так, как она написана Шекспиром, совершенно иначе, чем ее обычно исполняют на сцене. Крэг производит «переоценку ценностей». Он лишает Гамлета его углубленной сосредоточенности, сомнений, сокровенных и горьких раздумий, так глубоко раскрытых Шекспиром именно в этом монологе. Наоборот, у Крэга в этой сцене Гамлет появляется ликующим, смеющимся от восторга, восхищенный возможностью умереть. Фиксируя указание Крэга, Станиславский сделал пометку в своем режиссерском экземпляре: «Смерть. Хохот». Если Смерть рисовалась Крэгу светящейся фигурой, лучезарной и манящей, то идея жизни была связана с погружением Гамлета в темноту, во мрак. Мысли Гамлета о земном существовании олицетворялись зловещими, движущимися вокруг тенями, уродливыми и страшными. Эта борьба «земного» и «потустороннего», материального и идеального, происходящая в душе Гамлета, его колебания между жизнью и смертью запечатлены как игра светлых и темных теней на эскизе «Быть или не быть», подаренном Крэгом Станиславскому.
О том, как Художественный театр отказался от крэговского плана постановки «Быть или не быть», так и не найдя путей для его воплощения, подробно рассказано на страницах «Моей жизни в искусстве». Из разговора с К.С. Станиславским я узнал, что в процессе многочисленных исканий в работе над «Гамлетом» он производил и опыты с фигурой Смерти, делал различные пробы то со светом, то при помощи актеров. «Пробовал даже с Дункан, но ничего не получилось»12, — откровенно сознавался он. Однако прежде всего следует иметь в виду и то, о чем не говорил Станиславский, — идейная трактовка Крэгом этой сцены не была принята внутри Художественного театра и в первую очередь Немировичем-Данченко и самим исполнителем главой роли. В беседе со мною Качалов подтвердил, что помнит, как на одной или двух репетициях делались какие-то «пробы с фонарями», пытались движением неясных, колеблющихся, то возникающих, то исчезающих теней проецировать светом, как бы иллюстрировать на «ширме» внутренний мир Гамлета, его колебания, сомнения. «Над этим бились долго, но путного ничего не получилось». Все это, по словам Качалова, мешало актеру, рассеивало его внимание, отвлекало от основного и главного. Символическая идея постановщика, воплощенная в этой сцене, вызывала внутренний протест и раздражение у Качалова, так же как и те формальные приемы, которыми пытались добиться слияния света, движения и музыки в единое гармоническое целое, изменения которого отражали бы течение мыслей и настроений Гамлета. В том, что Крэг передавал здесь мысли Гамлета не только через актера, а как бы «рисовал» его внутренний мир через «дуэт» Гамлета с фигурой Смерти, сопровождаемый движением теней, олицетворяющих «черные думы», по мнению А.Я. Таирова, сказалась нетеатральная природа искусства Крэга, принцип художника-иллюстратора, а не режиссера13.
Вспоминая спустя более четверти века об экспериментах Крэга, Качалов отзывался о них явно неодобрительно, с иронией, считая их ошибкой, ненужными «фокусами Крэга», не только не имеющими отношения к главному, что вложено Шекспиром в монолог «Быть или не быть», но искажающими его внутренний смысл.
В решении трудной и ответственной задачи создания образа Гамлета Качалову было не по пути с Крэгом. Для Качалова «духи» и «призраки», о которых мечтал Крэг, не только не составляли «главный трагический элемент» «Гамлета», но казались чем-то лишним, мешающим, устаревшей условностью шекспировского театра.
Работая над ролью Гамлета, Качалов стремился сохранить жизненную и психологическую ткань шекспировского образа, показать со всей искренностью и предельной простотой глубину и силу переживания. И, добиваясь этой простоты, лишенной театральной искусственности, добиваясь правдивой передачи логики чувств и естественной мотивированности поступков, необходимых и в трагедии, Качалов невольно приходил к мысли устранить «неправдоподобное» и «неоправданное» у Шекспира, приблизив его к требованиям современного психологического театра.
В «Гамлете» казалась чуждой Качалову самая идея отмщения, представлялись неоправданными и вера в реальность Призрака, и элементы декламационности и театральной приподнятости, которые неминуемо должны были увести артиста от искусства переживания и толкнуть на традиционный путь актерского исполнения.
У Качалова явилась даже одно время смелая мысль отказаться вообще от появления фигуры Духа отца Гамлета и произносить самому текст и за Гамлета и за тень, использовав тот же прием, который он незадолго перед этим с таким блеском и виртуозностью применил в «Братьях Карамазовых» в сцене кошмара Ивана14.
Г. Крэг. Дух отца Гамлета. Гравюра на дереве. 1912
«Меня как актера волновало и грело, — рассказывал мне В.И. Качалов, — что Призрак будет невидим. Гамлет видит его лишь в своем сознании, как внутреннее видение, как свою галлюцинацию. Так же как и в «Карамазовых», я хотел применить здесь прием «раздвоения», сохраняя единство образа. Гамлет не только видит Призрак своим внутренним взором, но в то же время чувствует его в себе, слышит его голос, может быть звучащий в его душе. Мне хотелось говорить самому слова Духа, то есть то, чему душой внимал Гамлет и что, как ему казалось, звучало в воздухе».
«Кошмар Карамазова — это то, над чем я работал с наибольшим вдохновением изо всей моей театральной работы, изо всего моего сценического творчества», — сообщил Качалов во время беседы с Н.Е. Эфросом. И, несмотря на то, что режиссура спектакля с Вл.И. Немировичем-Данченко во главе «сильно противилась, энергично разубеждала, уверяла в неосуществимости, в неизбежном художественном крахе такой затеи», актер со всей настойчивостью и упорством отстаивал свое право на самостоятельное решение. Показав подготовленную им сцену, Качалов убедил всех в своей правоте, проявив при этом одно из самых замечательных, присущих ему качеств — умение объективировать мысль и виртуозное техническое мастерство, позволявшее ему, находясь одному на сцене, в течение тридцати с лишним минут — срок поистине грандиозный для театра — держать зрительный зал в состоянии напряженного внимания.
Отказ от изображения на сцене черта, описанного Достоевским в романе во всей ужасающей конкретности («дрянной мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его и, наверно, отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый...»), давал Качалову возможность вести эту труднейшую сцену как разговор Ивана с самим собою, как проекцию его больного сознания.
Появление черта в романе Достоевского подготовлено, как известно, тем, что Иван Карамазов находится в состоянии душевного расстройства. Черт — это его кошмар. Таким образом, мучительная раздвоенность Ивана, его трагическое исступление, его способность к «видениям» были реально оправданы его душевной невменяемостью и болезнью. Этим и воспользовался Качалов.
Сходные мотивы реального изображения фантастического, видений, призрачных, странных образов, неожиданно обретающих наглядность, мы встречаем и у Льва Толстого и у Чехова. Их стремление к психологическому анализу, к строго реалистическому обоснованию действий и поступков человека не исключало применения и такого рода средства. Разве не знаменателен тот факт, что в рассказе Чехова «Черный монах» таинственное и необъяснимое вначале появление призрака монаха раскрывается автором как болезненная галлюцинация Коврина и исследуется с точностью, не уступающей врачебному анализу? У Толстого призрачное и таинственное в жизни человека ограничивается обычно лишь сферой сна, где причудливая смесь действительного с недействительным, сочетание фантастического с реальным находит свое выражение как нечто подсознательное, как полное ужаса внутреннее предчувствие приближающейся катастрофы. Вспомним хотя бы сны Анны Карениной и Вронского.
В «Гамлете» дело обстоит значительно сложнее, и потому актерская заявка Качалова казалась дерзкой и неосуществимой. Она означала не только нечто совершенно несовместимое с планом Крэга, но вносила существенный корректив и к Шекспиру, на который Художественный театр не пошел, ибо здесь дело заключалось не только в применении нового актерского приема, но и в спорности самого принципа. «Мы не должны думать о том, может являться дух или нет? — говорил Немирович-Данченко 23 марта 1911 года в беседе с участниками «Гамлета». — Мы должны отбросить этот вопрос, потому что это условность трагедий Шекспира, и мы не должны с современной точки зрения подрывать это объяснениями, что это фантазия Гамлета... Рок...»15. В «Гамлете» этот «саморазговор» принца с тенью нельзя было сделать без ломки драматургии — Дух является здесь активным действующим лицом трагедии, участником интриги. У Достоевского черта видит только Иван Карамазов. У Шекспира Дух отца Гамлета видит не только Гамлет, но и другие действующие лица. Он появляется несколько раз, чтобы воздействовать на поведение Гамлета, побудив его к мести. Правда, у Шекспира Призрака видит только тот, кому он хотел явиться. Поэтому, например, в спальне королевы лишь Гамлет видит Призрак отца, в то время как для присутствующей здесь Гертруды он невидим. Зато в первой сцене его видят Бернардо, Марцелло и Горацио. Это, конечно, не галлюцинация Гамлета — Призрак у Шекспира по-своему всегда реален. В издании «Гамлета» 1603 года в сцене в спальне королевы имеется следующая ремарка: «Входит Призрак в ночном халате»16.
Чтобы не вступать в явное противоречие с Шекспиром, Художественный театр вынужден был отказаться от интересного качаловского замысла. Однако самый факт зарождения этой идеи в недрах МХТ, притом у такого типичнейшего для его школы актера, как Качалов, чрезвычайно знаменателен17. Этот же прием для изображения Духа, как видения самого Гамлета, спустя тринадцать лет использует в МХАТ II М.А. Чехов, но, переключив его из реалистического в мистический план.
Если символисты постоянно взывали к «роковому», «таинственному» и «мистическому», видя в нем сущность трагического, и в туманных «перепевных звонах» их поэзии тема «древнего хаоса», «теней» и «призраков» занимала такое значительное место, что даже реальная жизнь в их изображении сама превращалась в призрак, то в искусстве психологического реализма трагическое понималось иначе: духи и привидения здесь переставали быть излюбленным предметом художественного изображения, и даже самое «амплуа призрака», на возрождении которого так настаивали и Гордон Крэг и Мейерхольд, совершенно уходило из театра.
Показательно, что Станиславский, больше других в Художественном театре чувствовавший красоту и поэзию фантастического и сказочного, что он доказал хотя бы постановкой «Ганнеле», прологом «Снегурочки» или, наконец, «Синей птицей», высказывал предположение показать тень отца Гамлета, так же как и золотую фигуру Смерти, лишь светом, чтобы придать им впечатление призрачной иллюзорности. Но Крэг настаивал, что Духа должен изображать на сцене только актер. Однако Станиславский в мае 1909 года все же продолжал различные пробы «со стеклом и тюлем» для изображения тени в «Гамлете»: отражение волшебным фонарем темной фигуры Призрака на светлом тюле, черный силуэт тени на синем стекле (лунный свет), «летающий призрак», как в «Синей птице», световой отблеск, исходящий от вырезанной из светлой жести фигуры и др.18 Не случайно, что Художественный театр в одном из своих ранних обращений к Шекспиру, в знаменитом «Юлии Цезаре» (1903), трактованном им как историческая трагедия, намеренно отказался от воплощения темы роковой предопределенности, и само появление призрака убитого Цезаря ночью в походной палатке Брута, в лагере близ Сард, осуществил отраженно, при помощи света, как бесплотное видение, подчеркнув тем самым, что «какой-то страшный призрак», видимый Брутом, не существует в реальности, а является лишь его галлюцинацией.
«Действительно, получалась фантастическая какая-то сверхсущность, — вспоминал В.А. Симов в своих мемуарах об этом появлении Цезаря, хотя Качалов и не выходил на сцену, а являлось только его отражение. — Зрителю нельзя разобраться: видение, привидение, обман зрения, галлюцинация. Бруту ли это только кажется, или каждому в зале чудилось одно и то же...». Но в таком изображении тени Цезаря посредством применения зеркал и света заключалось не только стремление театра достичь новых и неожиданных сценических эффектов, создающих иллюзию призрака, но в известной мере и опасение, что появление на сцене актера в виде духа Цезаря нарушит последовательно реалистический план спектакля, окажется чем-то слишком несообразным и наивно «театральным», во что не поверит современный зритель.
В «Цезаре» театру удалось устранить эту «несообразность» и «оправдать» ее переключением призрака из «искусственного» в психологический план (ведь только Брут один видит призрак Цезаря, только он один говорит с ним, следовательно, это видение может существовать лишь в его расстроенном воображении), так же как это было в сцене разговора Ивана с чертом в «Карамазовых». И в том, и в другом случае это было вполне допустимо и не нарушало художественной логики произведения.
Конечно, то что было сделано МХТ в новом сценическом осуществлении призрака в «Цезаре» и «Карамазовых», было интересным и многообещающим опытом, но все же было лишь частичным разрешением проблемы.
«...Но боже мой! разве мысль о привидении, мысль о духе так странна? — недоумевал Крэг. — Тогда весь Шекспир странен и неестествен; нам следовало бы поскорее сжечь большую часть его произведений, потому что мы, в двадцатом веке, не желаем ничего такого, что можно назвать странным и неестественным»19.
Возражения Крэга по поводу духа отца Гамлета имели, казалось, свое основание, так как духи у Шекспира были одной из поэтических условностей его театра, столь характерной для ренессансного реализма. Вспомним, что тень отца Гамлета была, по преданию, лучшей ролью самого Шекспира. По существу, Шекспир продолжал здесь установленную веками традицию. Вспомним, что и в античности, у Эсхила, этого, по выражению Энгельса, «отца трагедии», мы встречаем в «Персах» тень царя Дария, «вышедшую из недр могильных», — первый по времени призрак, открывавший собой длинную галерею призраков трагического театра.
Еще до написания Шекспиром трагедии о датском принце, в 80-х годах XVI века, на лондонской сцене уже шла пьеса Томаса Кида о Гамлете, в которой (это все, что известно о ней) появлялся призрак убитого отца (в 1596 году Лодж писал о «бледном лице призрака, который кричит со сцены жалобно, как торговка устрицами: «Гамлет, отомсти!»)20. Духи и до Шекспира имели многовековую театральную традицию.
Крэг как будто бы был прав, когда возражал Станиславскому против последовательно реалистического принципа психологического «оправдания», применяемого к Шекспиру так же настойчиво, как к Чехову и Льву Толстому. В.М. Бебутов, бывший в те годы помощником режиссера в МХТ, рассказывал мне, что на одном из занятий по «Гамлету» на вопрос К.С. Станиславского: «А как мы это сможем оправдать?» — Гордон Крэг резко и категорически отрезал: «Шекспир, как и все великое в искусстве, не нуждается в «оправдании»!
Но вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. На самом деле Крэг в своем стремлении превратить Шекспира в символиста и мистика, сделать духов и призраков основным и существеннейшим элементом его творчества, был неизмеримо дальше от подлинного Шекспира, чем Художественный театр, при всех его порой ошибочных увлечениях.
Для Крэга задача режиссера при постановке шекспировских трагедий состояла в том, чтобы показать подчиненность человека року, в то время как в действительности смысл и значение драм Шекспира, по сравнению с драмами античности, состояли в освобождении человека от влияния рока, в том, что судьба человека была заключена в нем самом и в окружающих его обстоятельствах, а его поступки предопределены его характером и страстями в столкновении с этими обстоятельствами.
Качалова, как и Художественный театр, волновали в Шекспире в первую очередь настоящие, живые, человеческие чувства, потрясавшие своей глубиной и правдой, и в то же время возможности и особенности актерской школы Художественного театра и его понимание существа реализма далеко не во всем совпадали с Шекспиром, с его мощным, грубым и в то же время поэтическим реализмом в изображении страстей, огромных и неукротимых.
Не только наличие призраков и выходцев с того света, являющееся в значительной мере рудиментом дошекспировского театра, но и специфические условия и условности шекспировской сцены, печать театральных вкусов эпохи, некоторая декламационность и приподнятость, склонность к сентенциям — все это казалось с точки зрения психологического реализма МХТ пережитком прошлого, мешающим раскрытию живых и непосредственных чувств, тех тайн души человеческой, которыми так велик Шекспир.
В этом смысле чрезвычайно показательно утверждение Вл.И. Немировича-Данченко, высказанное им спустя почти тридцать лет после крэговского спектакля, когда сам он с таким увлечением приступил к работе над новой редакцией «Гамлета». По его мнению, не только Шекспир, но и все великие драматурги прошлого, кто бы они ни были — Эсхил, Лопе де Вега, Шекспир или Шиллер, все они вместе с прекрасным, поэтическим и в то же время ясным и простым раскрытием человеческих страстей заключают в своем искусстве театральную форму и приемы, которые в ряде случаев нарушают жизненно психологическую ткань произведения. «...Вместе с глубочайшим проникновением в человеческую душу, с необыкновенной прозорливостью в столкновении человеческих страстей, вместе с великолепным чувством театра, то есть умением передать свое гениальное понимание человека в форме театрального представления», вместе с этим, по мнению Немировича-Данченко, Шекспир приносит и театральные приемы, «которые нам теперь, в двадцатом веке, нам, искусству Художественного театра, кажутся противоречащими самому лучшему и самому основному, что мы получаем от классиков и что мы выработали в своем собственном искусстве». Он писал: «Да, в Шекспире есть целые полосы, которых истинный актер Художественного театра не умеет произносить. Может быть, потому, что и не хочет уметь»21.
Обратимся теперь, в свете интересующей нас проблемы, к исполнению Качаловым сцен третьего акта — с Офелией и королевой.
2
Гамлет и Офелия! Эта трагическая пара является одной из самых поэтических в мировой литературе. Подобно Данте и Беатриче, Фаусту и Гретхен, Гамлет и Офелия на протяжении столетий неизменно волнуют человечество. Их трагическая судьба не раз вдохновляла поэтов, артистов, музыкантов и художников. Вспомним хотя бы тоскующего и обреченного Гамлета в увертюре-фантазии Чайковского или лирически-страстного юношу, пылко влюбленного в Офелию, каким играл его семнадцатилетний Блок в домашнем спектакле в Боблове в 1898 году22, посвятивший своей Офелии цикл стихотворений — «роман в стихах», — полных смутных и туманных предчувствий, и, наконец, трагически-тревожного романтического Гамлета, чернокудрого, с лицом, напоминающим Демона, опустившегося на одно колено перед Офелией, каким изобразил его Врубель на небольшой картине 1888 года.
По мысли Георга Брандеса, Шекспир «не создал ничего более глубокомысленного», чем отношения Гамлета к Офелии. Неуловимые и причудливые, полные противоречий и загадок, кажущихся неразрешимыми, они нередко представлялись неясными и трудно объяснимыми. Здесь Шекспир как бы сознательно не договаривает, погружая читателя в область догадок и предположений. И эта «неясность», дающая возможность многих толкований, всегда являлась заманчивой и притягательной для актеров. Они могли здесь найти для себя особенно интересные и сложные психологические задачи, объясняющие непонятное и, казалось бы, необъяснимое поведение Гамлета, сделать психологически оправданной его резкость с Офелией, доходящую почти до жестокости. Ирвинг говорил, что он считает отказ Гамлета от Офелии одним из самых сложных мотивов во всей драме. Сценическая история «Гамлета» сохранила нам много ярких и красочных приемов игры великих актеров как раз в этих сценах. И это понятно — здесь нельзя было просто передавать текст роли, а надо было самостоятельно объяснять некоторые особенности поведения Гамлета, иными словами, здесь открывалась возможность свободного творческого домысла и истолкования.
Тема любви Гамлета, по-видимому, занимала значительное место в игре знаменитого трагика театра «Глобус» Ричарда Бербеджа, первого исполнителя этой роли и друга Шекспира. В «Элегии» 1619 года, оплакивающей смерть Бербеджа, говорится, что «молодой Гамлет», «добрый Лир» и «опечаленный мавр» «жили в нем». Правда, в последнее время подлинность данной «Элегии» оспаривается, и высказано предположение, что она написана не в XVII, а в XIX веке. Но и при этом условии в ней, возможно, сохранился отзвук сведений — пусть даже легенды — о первом исполнителе роли датского принца. Показательно, что именно юным, пылким, движимым страстью был этот первый Гамлет, «молодой Гамлет», прыгавший в могилу Офелии «обезумевшим от любви» («mad lover»), как сказано в элегии, или «печально-влюбленный» («sad lover») по другому варианту. И разве не показательно, что именно этим только свидетельством о любви Гамлета исчерпывается все, что мы знаем об исполнении Бербеджем роли датского принца!
Романтики усложнили эту тему. Они впервые увидели в Шекспире многогранность, сложность и противоречивость душевной жизни, которая не в полной мере была ясна великим актерам XVIII века. Если Брокман при встрече с Офелией играл Гамлета почти смешным сумасшедшим, подчеркивая и здесь псевдобезумие, если Шредер «стремился воздействовать на сердце», окрашивая порой свои слова к Офелии в чувствительные тона23, то Эдмунд Кин придал этой сцене небывалую до того трагическую силу и напряженность.
Отзыв Людвига Тика, один из немногих источников, позволяющих судить о Гамлете Кина, посвящен описанию именно этой сцены. Кин играл ее по-новому, не «сентиментально» и «женственно-нежно», как было принято прежде. Напротив, он был «слишком горек и остер».
Слова «Иди в монастырь» он произносил «со все возрастающей силой в голосе, доходил до серьезно-угрожающего, приказывающего, почти кричащего тона». Это был гневный, устрашающий, беспощадный Гамлет. Но Кин не ограничивался этим. Его образ сложнее и многограннее. В последовавшей затем паузе, которая вызвала несправедливый упрек Тика в «выверте» и «рассчитанном фиглярстве любовника», Кин своей немой игрой вскрывал недосказанное. Он «брался за ручку двери, застывал надолго, бросал на Офелию страдальческий, почти плачущий взгляд, и после небольшой паузы очень медленно, как бы крадучись, возвращался, хватал руку Офелии, с тяжелым вздохом запечатлевал на ней медленный поцелуй и затем еще более бурно, чем перед этим, вихрем выносился со сцены, с силой захлопывая за собой дверь».
Так пытался Кин решить эту «психологическую загадку», дополнив своей немой игрой то, что не высказано словами, тот клубок противоречивых чувств, которые боролись в Гамлете. И это придавало всей сцене иной смысл. Он показывал здесь противоречия любви и ненависти, нежности и жестокости, мучений и мучительства.
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Эти тютчевские строки могли быть отнесены ко многим Гамлетам, игравшим в сцене с Офелией мучения любви.
Полным глубоких и страстных противоречий играл эту сцену П.С. Мочалов, в отличие от Гамлета В.А. Каратыгина, только карающего, несущего жестокость, желание ранить, причинить боль, оскорбить. У Мочалова «в словах дышала ирония, местами растворенная жалостию, любовию к Офелии; у г. Каратыгина выражалось негодование, кипело сердце оскорбленное; первый как будто с грустию, с сожалением смотрел на прекрасное, чистое создание, которое люди еще только губили своим сообществом; второй, раздраженный, в пылу досады, как будто считал Офелию уже погибшею; первый хотел уязвить, второй — оскорбить ее; Гамлет, в игре г. Мочалова, умолял Офелию удалиться от людей»; г. Каратыгин «приказывал ей сделать это. Притом г. Мочалов сосредоточивает все свое внимание на одной Офелии, как бы забывая, что Полоний и король подслушивают их; г. Каратыгин, напротив, старается более всего выказать, что ему известны умыслы их...»24.
Как же играл эту сцену Качалов? При всем различии исполнения Мочалова и Кина в сцене с Офелией всегда проявлялись страстность, трепет, острота чувств. У Качалова все иначе. Нет ни страсти, ни страстности последнего прощания. Другая, новая тема, тема отречения от любви, а не мучения любви характерна для него.
Гамлет Качалова скорее аскет, чем любовник. Прощаясь с Офелией, он не безумствует, не волнуется, не выходит из себя. Не любовь и ненависть, а понимание трагической безысходности своего положения, пронизывало его игру. Все личное, а потому и страстное, волнующее, отпало, потеряло цену, вытеснено другим, большим, что составляет цель и смысл его жизни, — идеей нравственного преобразования мира. И поэтому Офелия и ее судьба уже не волнуют его, поглощенного «общим», «всечеловеческим».
Если Эрнесто Росси превращал «Гамлета» из философской трагедии мысли в «драму чувства» и со свойственным этому великому артисту южным, итальянским темпераментом и пылкостью выдвигал романтическую тему любви Гамлета к Офелии чуть ли не на первый план, делая ее как бы «особой драмой в пьесе», и «философа приносил в жертву лирику», то у Качалова мы видим обратное. Для него эти сцены были второстепенными, проходными. Не в них заключался главный смысл его исполнения.
В словах Гамлета — Качалова: «Ступай в монастырь», произнесенных спокойно, — нет ни мольбы, ни приказа. Качалов здесь не гневен, не мстителен. Наоборот, он говорит их братски-оберегающе, слишком, может быть, «духовно», «сверхбратски», сказали бы мы.
Долгим, внимательно-испытующим и в то же время как бы отсутствующим взором смотрел он на Офелию, словно оценивая что-то, соображая, можно ли ее еще спасти. И в его усталых, немного близоруких глазах читалось скорбное сознание неизбежности, понимание обреченности Офелии («...будь чиста, как лед, бела, как снег — ты все-таки не уйдешь от клеветы»).
Для него Офелия уже не существовала как любимая им женщина. Он не мучился, отвергая ее, а как бы издалека наблюдал за ней, давал ей советы, что-то внушал, как пастор. В его отношении к ней было снято чувственное начало. Жажда жизни и вера в возможность личного счастья надломлены в нем. Он знает, что он и любовь его обречены и бессильны в этом мире жестоких и равнодушных сил. «В окружающей ядовитой атмосфере все отравлено — и любовь, и ее объект». И потому все глубже и глубже уходит он в себя, все сильнее испытывает свое одиночество, и нося в себе молчаливое горе, преодолевая боль и страдание, все ближе и ближе подходит он к спокойствию и пониманию.
Любит ли качаловский Гамлет Офелию? Этот вопрос уместно поднимался критиками. Во всяком случае, по собственному признанию артиста, Гамлет «не верит в эту любовь», так как знает, что она «не расцветет». Но он «ясно ощущает в себе возможность великой любви, будь мир иной».
Этому «выключению» Гамлета в известной степени способствовал и Гордон Крэг, который в своем первоначальном плане постановки стремился всячески очернить Офелию, сделать ее недостойной Гамлета, каким-то жалким, «маленьким, ничтожным существом», более подходящим к Фальстафу, чем к Гамлету. По концепции Крэга, Офелия «дура», «истеричка», «глупая и прекрасная», впитавшая в себя тлетворную обстановку двора, отравленная воспитанием, сохранившая дурные качества «ужасно ничтожной», «глупой, бестолковой» семьи Полония. По мнению Крэга, Гамлет любит не Офелию, а воображаемую женщину, порождение его мечты. В беседе со Станиславским в 1909 году Крэг говорил, что «обе женщины в «Гамлете» — и королева и Офелия, в сущности обе очень плохие женщины, очень неважные. Я бы хотел, чтобы это чувствовалось. Я бы хотел, чтобы между Гамлетом и всем остальным миром не могло быть ни одного пункта соглашения, никакой надежды на возможность примирения». Позднее Крэг внес в образ Офелии изменения. Как утверждал он, Офелия, сойдя с ума, порывает с земной, «материальной» жизнью и вся живет в новом, созданном ею иллюзорном мире. Это делает ее прекрасной, так как только через отречение от земного существования она смогла приблизиться к духовности Гамлета.
Эдмунд Кин, П. Мочалов, Эрнесто Росси, как мы видели, передавали в этой сцене остроту разрыва с Офелией, причиняющего страдание Гамлету. Даже у Томмазо Сальвини, может быть более других «обреченного» Гамлета, не было безучастности, и последнее восклицание: «В монастырь!» — вырывалось у него, как стон, как бессильное «скорбное, жалобно звучащее тихое рыдание...» У Качалова острота страдания сглажена, притушена. В том, что произошло, нет неожиданности, ибо его отношения с Офелией, в сущности, закончились уже давно, и вся эта сцена звучит как печально-сосредоточенное прощание с прошлым, как отзвук пережитого.
Знает ли Гамлет — Качалов, что за ним следят «законные шпионы», что король и Полоний находятся здесь, поблизости, и что Офелия подослана ими, чтобы узнать его тайну?
По актерской традиции XIX века, имеющей широкое распространение и до наших дней, в середине сцены с Офелией Гамлет начинает понимать, что его подслушивают. Видит ли он колеблющуюся занавеску, слышит ли шорох или, наконец, замечает самих «шпионов», но с этого момента он резко изменяет свой тон с Офелией. Это давало возможность актерам психологически мотивировать переход от нежности и любви к притворному сумасшествию и ярости или к вспышке подлинного безумия. Этот мотив не только объяснял внезапный перелом в настроении Гамлета, но давал актерам большие игровые возможности. Не случайно, что его использует и Эдвин Бут, и Т. Сальвини, и Л. Барнай, и Г. Ирвинг, и многие другие исполнители Гамлета, вплоть до Д. Гилгуда и П. Скофилда, Д. Дудникова и В. Вагаршяна, Е. Самойлова и М. Астангова.
Не находя в игре Качалова в этой сцене неожиданного и резкого перелома, некоторые из критиков полагали, что, может быть, Гамлет у Качалова «не показывает, что видит короля и Полония в засаде». Но это неверно, и Н.Е. Эфрос был прав, говоря, что «Качалов это показывает»25.
«За сценой шум. Гамлет догадывается, что его подслушивают»26, — эта запись, сделанная на репетиции, кратко и четко отмечает задание режиссуры.
О.В. Гзовская, создавшая своеобразный и интересный образ Офелии, во многих моментах расходящийся с замыслом Крэга, рассказывала мне о том, как проходила эта сцена в Художественном театре. Робко и неуверенно протягивала Офелия шкатулку, которую Гамлет — Качалов брал с полуусмешкой. Она не знала, что ей делать, переживая ужас покорности. Офелия не хочет отдавать подарки. Она чувствует, что король и Полоний делают подлость, подслушивая Гамлета и заставляя ее быть соучастницей их преступления. Но она не смеет их ослушаться, зная, что они следят за ней. Она полна отчаяния, смущения, стыда, она не в силах смотреть Гамлету в глаза и в то же время все ее существо пронизано одним: желанием спасти Гамлета (это отвечало и намерению Крэга).
«Затравят они тебя» — вот подтекст слов Гамлета — Качалова к Офелии, как он воспринимался Гзовской. «Я должен бы тебе открыть то главное и страшное, что мучит меня, но я не хочу, не сделаю этого. Если и ты такая же, как и все, то, значит, в мире нет ничего святого, рушится все». По воспоминаниям Гзовской, в этой сцене в голосе Качалова была отчужденность и в то же время жалость и понимание. Для него было бы лучше, чтобы Офелия ушла в монастырь, сохранив свою чистоту, чем погибла здесь, в мире всеобщего разложения и лжи27.
Итак, Гамлет — Качалов узнает, что за ним следят, но этот чисто внешний момент почти не влияет на его поведение, не вызывает в нем злости и негодования. Больше того: на тексте своей роли, в начале сцены с Офелией, перед словами: «Ты честная девушка?» — Качалов записал: «...Хочу ей показать глазами, что я все знаю».
На вопрос Гамлета — Качалова: «Где твой отец?» — Гзовская — Офелия во время небольшой паузы едва заметным движением головы в сторону спрятавшихся как бы предупреждала, пытаясь уберечь его от шпионов, и только после этого отвечала тихо: «Дома, принц».
И это существенно меняло дело.
В последующей сцене, где все Гамлеты обрушивались потоком самых горьких укоров на Офелию, изливали на нее весь свой гнев, Качалов почти не повышает голоса. Он видит искренние слезы Офелии, видит ее — слабую, беззащитную, исполненную любви и страха, живущую только одним желанием — спасти Гамлета, но бессильную открыто выразить это, и в его словах к Офелии звучали жалость, безнадежность и скорбь.
Интересно, что и у Крэга эпизод прощания с Офелией намечался не на взрывах страсти, как у Генри Ирвинга, а на постепенном «затухании» Гамлета и погружении его во тьму, что должно было быть особенно ощутимым по контрасту с замыслом сцены «Быть или не быть», где, как мы помним, Крэг представлял себе Гамлета светлым, ликующим, смеющимся от восторга, понимающим «всю опасность и прелесть смерти». После того как фигура Смерти покидала Гамлета, он становился, по мысли Крэга, все печальнее и печальнее и, погружаясь в темноту, то есть в жизнь, испытывал «ужас реальности». «Здесь, в этой сцене, не должно быть никакой злости у Гамлета», и хотя он и «пугает Офелию, это происходит не от злости, а от мук сердца», — говорил Крэг 19 мая 1909 года. С того момента, когда Гамлет понимает, что его подслушивают (он слышит какой-то шум, видит, может быть, плащ, брошенный королевой, чтобы предупредить Гамлета), «я хотел бы, чтобы актер все затихал бы и затихал, то есть, чтобы мученья стали бы так невыносимы, что он все покойнее и покойнее идет к концу... Обыкновенно эти три «Прощай» Гамлета (Farewell) говорят так, точно он собирается уходить. Нет, он, стоя на месте, каждый раз все тише и тише, как бы умирая от горя, все тише посылает ей эти вздохи прощанья».
«...Качалов ведет, как по приказу, все время у стенки сцену с Офелией», — удивлялся и негодовал Н. Вильде, находя, что «это лишает сцену движения, это не в соответствии с тем взволнованным состоянием духа принца, в котором он находится, сцена, в которой он и нежен, и подозрителен, и беспощаден»28. Этот упрек Качалову не был единичен, ибо большинство критиков находило, что Качалов здесь, в этой сцене, был слишком «угасшим», бесстрастным, каким-то «потусторонним». В этом, несомненно, была известная доля истины, так как по сравнению с большинством прославленных исполнителей роли Гамлета у Качалова сцена с Офелией теряла яркость и напряженность и проводилась в ровном, несколько однообразном тоне. Но те, кто, подобно Н. Вильде, видели в этой сдержанной неподвижности Качалова лишь отсутствие у него трагического темперамента, необходимого для шекспировских героев, не постигли, что это было не случайной актерской ошибкой, а последовательным и органическим осуществлением, хотя и спорного, но своеобразного и глубокого замысла, ими не понятого.
3
«Качалов первый сыграл «Гамлета» без всякого героизма и подъема, со вдумчивостью, с резонерством», — писала в 1912 году Мариэтта Шагинян в своем «Литературном дневнике», отмечая, что «Качалов в основу своего изображения Гамлета положил эту ненависть к риторике и мудрую любовь к гармонии, естественности и простоте»29.
«Мудрая сдержанность Качалова была прекрасна в спокойных философских сценах... Сколько можно догадываться, его толкование Гамлета — полная противоположность той старой дореформенной трактовке роли, какая была у Каратыгиных, Мочаловых», — писал критик, осудивший, однако, актера за то, что такое толкование пришло к нему «не от сердца, а от ума», и за то, что «во весь вечер вы не видели здесь ни одного ударения в грудь, не слышали восклицаний, исполненных страсти»30.
Такой отзыв не случаен. То новое, что вносил Качалов, воспринималось современниками как нечто нарушающее их традиционное представление о Гамлете. Здесь мы подходим к существу споров о Гамлете Качалова, к уяснению причин появления резких и отрицательных оценок этого образа. Резкость и нетерпимость суждений возникли не потому только, что качаловское толкование в 1911—1912 годах было неверно понято или превратно истолковано критиками, но и потому, что в своих выводах они шли не от уяснения нового замысла, даже не от психологического раскрытия текста Шекспира, а от тех ставших традиционными воззрений на «Гамлета», которые были почерпнуты ими в описании игры Мочалова или из впечатлений от игры великих трагиков-гастролеров конца XIX — начала XX века, с их «открытыми», мощными темпераментами и бурной трагической патетикой. Находясь во власти их могучих и великолепных образов, эти критики, естественно, должны были резко и решительно возражать против трактовки Качалова, целиком выпадавшей из так называемой «высокой» романтической традиции.
«...Качалов играет не пылкого Гамлета — Гамлета без страсти и порыва», — замечает только что цитированный нами рецензент, видевший на своем веку «много Гамлетов, от 70-летнего Сальвини до нашего Дальского». Среди них Качалов, по его мнению, был «самый сдержанный датский принц».
«Г-н Качалов продумал каждую мелочь роли. У него все согласовано с этой его теорией. Если вы принимаете теорию, вы обязаны принять все его толкование», — справедливо отмечалось в той же рецензии. И, отдавая должное мастерству Качалова, его игре, «законченной до последнего штриха», этот критик — поклонник «пылких» Гамлетов, с «клокочущей страстью» и «огненной лавой в жилах» — делал резко полемический заключительный вывод: Гамлет — Качалов «ходячая отвлеченность, философия на двух ногах»31.
Говоря об исполнении Качаловым четвертой картины третьего действия («Спальня королевы»), критики негодовали, что он вел ее слишком ровно, «монотонно», без крика, почти не повышая голоса, что артист «стирал» нетрагической простотой «всю сцену с матерью».
По сценической традиции XIX века это была одна из самых драматических сцен, потрясавших сердца зрителей изумлением, ужасом и жалостью. Здесь Гамлет приходил карать «ожесточенную душу грешной матери» (мотив, идущий от XVIII века, когда королева в переделках Дюси изображалась злодейкой, знавшей об убийстве старого короля). И в то же время сам Гамлет испытывал «бездну мук» и нечеловеческих страданий.
Обычно исполнители этой роли давали тут выход негодованию, злобе и ненависти Гамлета.
Томмазо Сальвини в могучем трагическом порыве исступленной страсти «чуть не душит родную мать, обличая ее в кровосмешении и вероломстве». В.А. Каратыгин, по рассказам очевидцев, «немилосердно таскал свою несчастную мать с одного конца сцены на другой, чтобы показать ей два портрета», а в лирических местах переходил от крика к всхлипываниям. В.В. Самойлов давал здесь простор «мрачному негодованию» Гамлета, «гнев его переходит в ярость, он безжалостен, не знает пощады, слова его, как нож, режут сердце матери...». Наконец, у Иванова-Козельского «все бешенство, так долго копившееся в душе Гамлета, вырывается наружу, вся желчь и злость на дядю — все это делает из Гамлета какого-то зверя, он с бешенством и пеной у рта бросается к матери, срывает у нее с шеи медальон с портретом дяди и, в припадке исступления бросив его на пол, топчет его ногами...».
«В сцене с матерью нет надобности Гамлету орать, кричать, волноваться, — говорил Сулержицкий Качалову на репетиции 18 октября 1911 года. — Нужно импозантно, глубоко, серьезно, мягко (в конце сцены) поговорить с матерью; и в этом Гамлет будет глубже чувствовать»32.
Не отвлеченные «философские схемы» составляли для Станиславского и Сулержицкого основное содержание и внутренний смысл роли Гамлета, а тот «идеал человека, к которому стремится герой трагедии».
Оберегая Качалова любой ценой от штампов «театральной игры», от всякого преувеличения, от всего подчеркнуто героического, от всяческих «ударений в грудь», хотя бы и «исполненных страсти», Станиславский, Немирович-Данченко, Сулержицкий, не боясь отдельных срывов и неудач, смело направляли актера на поиски той большой правды, которую раскрывал в «Гамлете» «жестокий, печальный, горький художник Шекспир»33.
Признавая замечательным многое из того, что было достигнуто в Гамлете великими трагическими актерами, такими гигантами, как Мочалов и Томмазо Сальвини, которых Станиславский считал «идеалом актера», гениальными артистами, решавшими в своем творчестве, как и Шекспир, «большие, мировые, общечеловеческие задачи», он видел, однако, смысл роли Гамлета в другом, решал вопрос в иной, чем они, плоскости.
Сулержицкий говорил на репетиции Качалову: «Гамлет входит спокойно объясниться с матерью... Его позвали к ней. Отец-тень дал ему совет не оскорблять мать, и поэтому он должен войти спокойно, только для объяснений. Самое главное — удержаться вообще от крика. Крик сорвется в одном или двух местах, не больше. Крик-то чаще всего сводит актера с истинных рельс на рельсы театральности и штампа. Всегда в этой сцене все Гамлеты приходили с целью карать и миловать мать. А приходили так потому, что в смысле сценическом — эффектно. Но это неправда. Это и есть дешевая эффектность».
«Эта сцена — самая сильная и красивая сцена», — утверждали режиссеры МХТ. Они видели ее основную творческую задачу, ее притягательность в том, что здесь Гамлет «пришел не карать, а спасать мать».
«В этой сцене взаимное спасение. Мать спасает Гамлета, а он ее. Спасают друг друга тем, что оба очищаются, раскаявшись, открывшись друг другу», — разъяснял Сулержицкий замысел Станиславского.
И это определило тот водораздел, то различие, которое бросалось в глаза при сравнении игры Качалова с игрой других исполнителей этой роли. Тему спасения, а не возмездия и кары передавал здесь Качалов.
И задача этой сцены последовательно и органически вытекала из основной, главной, всеобъемлющей цели, к которой должны были быть направлены все без исключения задачи роли: к так называемой «сверхзадаче» спектакля — «хочу спасать человечество».
Эта большая нравственная тема и составляла то глубокое, духовное содержание, которое пытались раскрыть Станиславский и Качалов в «Гамлете», понятом ими как трагедия мысли, трагедия совести.
В записях репетиции от 18 октября 1911 года мы читаем:
«После запала (убийство Полония) нужно подавить в себе запал, сдержать себя и тихо, без волнения, но с внутренней дрожью, объясниться, то есть черное (внутреннее волнение) дать по белому (спокойствие). На совесть нельзя действовать криком; совесть может поддаться только убеждению. Гамлет силен не голосом, фигурой, не физически, а именно своей духовностью. Он силен убеждением».
«Затишье после бури» — так определяла режиссура вторую половину сцены. «Начинается сцена силою матери, а кончается ее поражением и силою Гамлета».
По мнению Станиславского, в этой сцене было достигнуто новое и необычное решение. «После представления у Гамлета раскрылось что-то, и потом полилась из его души искренность мужественности, которую Гамлет прежде упорно скрывал. Теперь и искренность, и мужество, и волнение убийства слились в одно», — записал К.С. Станиславский после объяснения Г. Крэгом четвертой картины третьего действия.
Крэг отказался здесь от постановочных эффектов и нарочитой символики, которая присутствовала в ряде сцен его «Гамлета», сосредоточил внимание на внутренних взаимоотношениях действующих лиц — Гамлета и королевы. Кроме того, большая человечность этой сцены заключалась в том, что Крэг избегал здесь резко подчеркнутой изолированности Гамлета, полной его отчужденности от окружающих. И сам образ королевы Гертруды претерпел в этой сцене внутреннюю и внешнюю метаморфозу. Мать Гамлета, трактованная Крэгом в первых актах трагедии как отрицательное существо, теперь становится «прекрасной», деятельной в своей любви к Гамлету («Она все время стоит со спасательным кругом», — замечает Крэг).
Начиная с третьего акта королева становится для Крэга положительным образом потому, что предупреждает Гамлета о грозящей ему опасности, обманывает короля, убеждая его в сумасшествии Гамлета, словом, все время стремится к одному — спасти Гамлета.
Это изменение образа Гертруды происходило, по мнению Крэга, потому, что королева, испытывавшая «плотское чувство к королю и духовное чувство к Гамлету», после сцены в спальне отрекается от своего личного счастья и полностью стремится приблизиться к «духовному началу», то есть к Гамлету. Победа «духа» над «материей» вызывает в ней не только духовное, но и физическое преображение. «После разговора с Гамлетом в ее комнате она стала совершенно другим человеком. Она похудела, поседела, лицо стало прекраснее, она даже стала очень похожей на Гамлета». Королева, говорил Крэг, «должна быть прекрасной, с хорошим материнским чувством. Она рада, что он (Гамлет) жив...».
Гамлет «чувствует, что надо очистить атмосферу», — говорил Крэг, объясняя эту сцену. Он видел здесь в Гамлете «холодную решительность» и скорбное спокойствие. В этой сцене Гамлет хочет убедить королеву, а «она не хочет уступать, поддаваться его доводам... От этой борьбы растет скорбь, но нет негодования... Далее все растет поток скорби»34.
Качалов, следуя указаниям Станиславского, Немировича-Данченко и Сулержицкого, которые занимались с ним этой сценой, не хотел «рвать страсть в клочки» и раскрывал здесь трагическую тему в гармонии внешней сдержанности и глубокого душевного волнения. Его Гамлет стремится действовать словно силой внушения. Убежденной и убеждающей горечью правды добивался он очищения и раскаяния королевы-матери. На репетиции 18 октября 1911 года Сулержицкий говорил Качалову и О.Л. Книппер, что в конце сцены Гамлет даже приказывает матери, «но это не приказ начальника, а приказ друга, товарища». И когда после всего мать опять спрашивает: «Что должна я делать?» — Гамлет произносит монолог в смысле: «Пока не развратничать!» («Отнюдь не то, что я себе скажу!»). «Монолог этот Гамлет говорит, как бы иллюстрируя, что могло бы быть, если б она продолжала развратничать. И в этом монологе любовь, тишина, спокойствие, — объяснял режиссер Качалову. — И здесь, повторяю, Гамлет рисует матери, что бы вышло, если б она опять пошла бы... на ложе разврата...»35.
«Будь человечески жесток, о Гамлет» — эти шекспировские слова, по мнению самого артиста, могут служить комментарием к его исполнению этой сцены. Его Гамлет любит мать, его постоянно тянет к ней, и ей, только ей одной, может он излить свою истерзанную душу.
Станиславский считал, что только такие исключительные, великие актеры, как Мочалов и Сальвини, могут выражать «черное по черному», так как для этого нужна «густота чувств» и сверхмощный трагический темперамент, и что современные актеры, актеры психологической школы, должны выражать силу и страсть по преимуществу не прямо, не обнаженно, а через дополнительные, контрастные тона, через спокойствие, в котором отраженно должно угадываться огромное внутреннее волнение.
Вот почему в противоположность критикам, упрекавшим Качалова — Гамлета в «монотонности» и однообразии выразительных средств, Станиславский считал, что здесь, в этой сцене, сдержанность является не недостатком, а, напротив, очень существенным достоинством Качалова.
«Качаловский нерв (крик), если перенести на тихую любовь (противоположное чувство), то он будет сильнее».
«Этот тихий, монотонный голос и есть та гипнотизирующая сила Гамлета — Качалова на публику», — настаивал Сулержицкий.
И это было тонко и верно подмечено в игре Качалова некоторыми из наиболее проницательных критиков.
«Прекрасный голос его — даже тогда, когда он усиливает его в сценах смятенья, когда он кричит, — дает только мягкие ноты среднего регистра, хотя мы знаем у него и иные ноты, более высокие, более острые и волнующие», — замечает Л.Я. Гуревич, уловившая в финале картины «Спальня королевы» «тихую любовь» Гамлета, его мягкость и лиризм. «Заключительный момент сцены с матерью, которую Качалов ведет опять слишком ровно, в одном только среднем регистре — хотя ведь сыновняя любовь и негодование одновременно рвут здесь его душу, — заключительный момент этой сцены тоже прекрасен: движение, которым он опускает голову на колени матери, полно нежности и поэтической прелести»36.
«Гамлет, по-моему, Качалов — исключительный. Я не видал таких Гамлетов, хотя перевидал не один десяток знаменитых актеров в этой роли, — восторженно писал А.Р. Кугель. — Все, самые обольстительные черты Качалова — умеренность и изящество движений, бледность лица, задумчивость и рассеянная снисходительность близоруких глаз, благородство речи и самый звук его голоса — светлый, полный, певучий — соединились здесь для образа Гамлета».
Показательно, что Кугель, яростный и непримиримый противник искусства Художественного театра, оценил то новое и значительное, что вносил Качалов в раскрытие гамлетовской темы.
«Я унес с собой из театра образ Гамлета — Качалова навсегда, и после Качалова все Гамлеты мне кажутся театральными картонажами»37, — писал он. И разве не знаменательно, что именно Кугелю, поборнику актерских эмоциональных традиций, неистовому защитнику «страсти» и «темперамента» в игре актера, принадлежат эти слова, дающие такую высочайшую оценку «сдержанному» качаловскому Гамлету?
Разве в этой «тихой, созерцательной, совершенно простой игре Качалова, без капли эффекта, без всякого пафоса», в этой «мягкой грации, не изменяющей ему даже в минуты страданий», как писала о нем М. Шагинян, разве не было в этом применения глубокого и мудрого принципа русского сценического реализма, сформулированного А.П. Чеховым, — на сцене надо выражать страдания без театрального преувеличения и пафоса, а так же сдержанно, просто и естественно, как в жизни, то есть «не ногами и не руками, а тоном, взглядом; не жестикуляцией, а грацией». Именно этой сдержанной мягкости, этой грации в выражении страдания требовал от Качалова Станиславский, когда, верный идеям Чехова, утверждал, что в сцене с королевой Гамлет должен был не «орать, кричать, волноваться», а быть простым и трагически значительным, без всякой театральной приподнятости и жестикуляции.
Оба режиссера спектакля — и Станиславский и Сулержицкий — всячески удерживали Качалова от проявления «актерского» темперамента, от «игры», укрепляя в нем стремление к сдержанности, к «скрыванию» чувств, а не к их яркому и исступленному выявлению. И это особенно характерно для искусства МХТ. «Скрытыми драмами и трагедиями» назвал в 1898 году Немирович-Данченко пьесы Чехова, определившие на долгие годы художественное лицо театра. Много лет спустя Немирович, не принимавший «вулканической природы актерской игры», неоднократно на репетициях призывал актеров МХТ к сдержанности, при которой у актеров может быть даже «вулкан в груди», но внешне это почти не должно быть заметно, должно лишь ощущаться, угадываться зрителем. «Чем глубже драма, тем больше скрывают», — говорил он, считая, что «прием угадывания» — прием МХТ38.
Для Качалова, больше чем кто-либо из актеров Художественного театра в совершенстве владевшего секретом декламации, умением музыкально читать стихи, пластически выразительным и отточенным жестом, это означало в известной мере самоограничение, самоотказ от многих выразительных и эффектных актерских приемов, которые облегчали театральное воплощение роли и сулили несомненный успех у публики.
Работая с Качаловым над Гамлетом, Станиславский боялся, чтобы Василий Иванович как-нибудь не повторил себя, используя найденное им в тех ролях, где есть сходные сценические положения, и стремился к тому, чтобы Качалов в каждой новой роли был новым, живым, индивидуальным, неповторимым человеком. Вспоминая о репетициях «Гамлета», О.В. Гзовская рассказывала, что Станиславский, стремясь к предельному обнажению души Гамлета через простоту, искренность и логику чувств, сурово, до жестокости, снимал у Качалова малейшие попытки наигрыша и декламационности. «Опять вы идете на ручках!» — сердился Станиславский, требовавший, чтобы Качалов отказался от внешних жестов, «смирял» голос, удерживался от «нерва», который может привести его к «штампу».
Может быть, в своем беспощадном стремлении «обнажить души актеров» Станиславский порой доходил до крайности, лишая актера нужных ему выразительных средств, и сдирал «штампы» с кровью, но это в то же самое время давало огромный стимул в работе, толкало участников спектакля на путь поисков нового, требовало больших жертв, но приносило и значительные результаты. В «Гамлете» эти жертвы, как мы знаем, не были бесплодными.
В глубокой разработке того, что скрыто за словами, что составляет «второй план» роли, в разработке психологического подтекста, объясняющего внутренний смысл слов и поступков, заключалась целая эстетическая программа в подходе к Шекспиру, то есть то, чего добивались и во многом достигли в своих занятиях с Качаловым и Станиславский и Немирович-Данченко.
4
Был ли качаловский Гамлет больше «статическим», чем «динамическим»? А если был, то не обрекалось ли внутреннее развитие трагедии на неподвижность? Не подменялась ли здесь трагедия трагическим положением? Вот вопросы, которые задавал себе Н.Е. Эфрос после первых просмотров Гамлета — Качалова. И он в известной мере был прав, находя, что именно «это — самое существенное, что можно сказать против исполнения Качалова в целом».
Несмотря на глубину и цельность замысла и все мастерство игры Качалова, бросалось в глаза, что трагедия души Гамлета была показана им «как-то сразу, а не в постепенном раскрытии». И это-то придавало известную одноплановость исполнению, вызывало упреки в отсутствии трагического «нарастания», в психологической «тенденциозности» и «статичности».
В пределах общей тональности образа Качалов показал разнообразие тонов и оттенков, богатство нюансов и переходов. Но эти переходы не меняли, а лишь варьировали основную тему исполнения, единого, последовательного и цельного в своей законченности.
«Я видел этого «Гамлета» трижды, на трех последовательных генеральных репетициях, — писал охваченный невольными сомнениями Эфрос, критик, особенно близкий Качалову, своими советами оказавший известное воздействие на артиста в момент подготовки им этой роли, — и первое впечатление было в этом отношении против исполнения Качалова. «Но где же трагедия? — спрашивал я сам себя, возвращаясь после первой встречи с этим, так меня очаровавшим Гамлетом, — где нарастание трагических чувств и коллизий?» И, вдумываясь в то, что произошло перед глазами, ища объяснения, почему Качалов играет так, скажем, «статически», я понемногу стал сомневаться в правильности не его игры, а предъявляемого к ней моего готового требования»39.
Правда, в известной мере эта «неподвижность» Гамлета — Качалова может быть объяснена тем, что актер был ограничен в своих возможностях замыслом Крэга, в котором, несмотря на всю его противоречивость, несмотря на стремление к игровой театральности, отчетливо выступала изолированность Гамлета, его «потусторонность» и внутренняя статика. И не привносился ли благодаря этому в спектакль трагизм событий, свершающихся без воли людей, подвластных действию неумолимых и таинственных сил, а не подлинно шекспировский трагизм героев, действующих по своей воле, в соответствии со своими целями?
Но дело обстояло сложнее, и нельзя забывать, что тот же Крэг как раз требовал от исполнителя динамических взлетов и мечтал показать своего Гамлета доведенным до восторга в сцене «Быть или не быть», до ярости и экстаза в «Мышеловке»!
За весь спектакль Гамлет — Качалов лишь два-три раза давал прорываться бурному проявлению чувств, «метнуться в безудержном порыве». Эти короткие, но страшные вспышки, полные трагической силы, производили огромное впечатление даже и на тех, кто упрекал актера за «общее впечатление монотонности».
По словам Качалова, к таким «трагическим вспышкам» относились: сцена после свидания с Духом отца, после представления актеров, отчасти сцена с флейтой, финал второй картины третьего действия («Гробы стоят отверсты, и самый ад на мир заразой дышит...») и убийство Полония.
В пятой картине первого действия «открытие тайны» Призрака производило в первое мгновение на Гамлета — Качалова впечатление потрясения.
С уходом Призрака оцепенение Гамлета сменяется «бурей отчаяния, пережитого актером во всей силе. Мгновениями кажется, что у того, кто будет притворяться безумным, начинается безумие...»40.
Александр Койранский на страницах «Утра России» оставил превосходное описание того, что происходит с Гамлетом — Качаловым после появления Духа отца: «...в малейший нерв вдохнула крепость льва Немейского...». Отсюда начинается другой Гамлет, другой Качалов. Елейные, монашески гладкие дотоле волосы непокорно разбиваются вокруг высокого лба... Скрытый огонь пробегает по движениям. И вот уже руки резким взмахом вскинуты кверху: «Господь земли и неба! Что еще? Не вызвать ли и ад?». Какой прекрасный, какой бархатный и полный звук! И сразу, почти шепот, жалобный, почти скулящий (как в «Анатэме»): «Нет, тише, тише, моя душа! О, не старейте, нервы!»41.
Итак, страшное потрясение, произведенное тенью, оказывается кратковременным, скоропреходящим. Гамлет — Качалов вслед за бурной вспышкой своего темперамента, сразу же овладевает собой, уходит в себя, скрывая в душе своей жгучее волнение. Он вновь возвращается, казалось бы, к тому состоянию, которым был полон до «страшного узнания». Перелома нет, потрясение проходит, боль загоняется внутрь. Режиссерская запись К.С. Станиславского, сделанная, по-видимому, в начале работы над «Гамлетом», позволяет отчасти понять и игру Качалова, ибо вслед за бурным трагическим всплеском («метание») у Гамлета, по Станиславскому, наступает спад, то есть то состояние, когда Гамлет словно «боится разрыва сердца» от глубины и напряженности душевной муки, которая его охватывает. И не случайно, что с этой сцены то мнимое безумие, которым прикрывается Гамлет в целях предосторожности, у Качалова под влиянием душевной боли приобретает порой оттенок безумия подлинного.
Перед нами был Гамлет, «страшный в своем наружном спокойствии, в своем притворном, а может быть, и начинающемся подлинном безумии...» — читаем мы в одном из критических отзывов. Гамлет — Качалов, «притаившийся в своем безумии, со своими мученьями... держит зрителя под впечатлением нарастающего ужаса, приковывает внимание, заставляет с жутким чувством следить за каждым движением, словом, за каждой интонацией своего богатого оттенками красивого голоса вплоть до последней сцены поединка, убийства Клавдия и своей смерти»42.
Другим, самым значительным моментом трагического взрыва у Гамлета — Качалова, естественно, была сцена «Мышеловки», где по прочно установившейся театральной традиции, все выдающиеся исполнители роли Гамлета проявляли бурность, безумство страсти и пафос, стремясь достичь трагической кульминации.
Не случайно, что и Гордон Крэг, достигший в этой картине смелых и неожиданных театральных эффектов, предоставил актеру целый ряд ярких и стремительных мизансцен и игровых моментов, полных экспрессии и драматического напряжения. Вспомним, что и сам Станиславский, показывая эту сцену на репетициях, давал «трагическое, исступленное ликование» и мечтал, что репетировавший Гамлета в очередь с Качаловым Л.М. Леонидов сможет достичь здесь силы трагических эффектов, равных Мочалову и Сальвини.
«В сцене «представления» Гамлет испытывает величайшее напряжение, экстаз, ярость, — рассказывал мне Качалов о своем исполнении. — Сила негодования Гамлета доведена до предела. Сомнения отпали, он полон решимости, уверенности, что все свершит («Я могу!!»). Он получил могучую зарядку, готов нанести удар королю («Пойду и убью! Свершу какие угодно действия!»). Он упоен уверенностью. Ничто не сдерживает его более. Он полон действенности. Он весь на накале страсти».
Как же раскрывалась актером эта действенность?
Мы знаем, что Гамлет — Качалов не был мстителем, но это не означает, что он был безразличен к вопросу о виновности Клавдия, к своей мести за убитого отца. «Только не в этом заключена его сущность. Это владеет им лишь временно, — верно замечает Н.Е. Эфрос. — На представлении «убийства Гонзаго» это ударило очень сильно, захватило душу, все заслонило, и Гамлет ненадолго весь отдался таким переживаниям. Узнанная через зеркало театра правда привела в хаос все чувства, перекинула за грань безумия. У Качалова нашлись достаточные силы бурности, чтобы все это передать великолепно. Через его танец, песнь, декламацию глядит величайший ужас».
Г. Крэг. «Гамлет». Гравюра на дереве
«Это явление было всегда любимым местом всех сценических Гамлетов, — писал Ф. Кони в 1853 году в журнале «Пантеон». — Тут было где развернуться, неистово покричать, похохотать адским смехом, побушевать руками. У Мочалова оно было страшно, он хохотал и трясся; у Каратыгина — в высшей степени эффектно, он кричал и полз по сцене...». Мы могли бы вслед за Кони продолжить эти примеры: Томмазо Сальвини давал в этой сцене выход своему могучему и страстному темпераменту, поражал «неожиданным, каким-то адски-диким всплеском торжества и злорадства». Эрнесто Росси швырял вдогонку королю тетрадку, по которой суфлировал актерам, так что листы бумаги фейерверком разлетались во все стороны, и, по воспоминаниям Андре Антуана, заканчивал сцену «исступленным буйством»: вскочив на кресло короля и «стоя на нем во весь рост, рычал от радости». Генри Ирвинг вскакивал с земли, с резким криком бросался к пустому трону короля и, раскачиваясь из стороны в сторону, под влиянием непреодолимого возбуждения бросал в зал: «Пусть плачет раненый олень...» и т. д. Эдвин Бут ползком приближался к королю, глядя на него свирепым взглядом, а когда свершалось убийство, он вскакивал с криком, «подобно карающему духу», и разражался долгим «отчаянным хохотом». Из русских трагиков Н. Вильде вел себя особенно шумно: он вскакивал на королевскую эстраду и сбрасывал с нее кресло, на котором сидел Клавдий. Наконец, Людвиг Барнай, вначале вдруг начинавший в исступлении «высоко и радостно подпрыгивать на одном месте», бросался потом с кинжалом в руке к пустому трону Клавдия, и в ярости, не замечая отсутствия короля, наносил в воздух удары кинжалом, потом, опомнившись, падал без чувств. Такова была яркая и театрально-увлекательная традиция исполнения этой сцены, с неизбежным «безумствованием» Гамлета, с вскакиванием на трон, трагической пляской и хохотом.
Не случайно именно в сцене «Мышеловки», больше чем в каком-либо ином месте спектакля, в игре Качалова имелись некоторые точки соприкосновения с этой прочно установившейся театральной традицией, начатой великими романтическими актерами. И именно поэтому за эту сцену, за так называемые моменты «настоящей игры», актер получил наибольшие восторги и признания даже среди отрицателей своей трактовки Гамлета. Правда, в одном из отзывов отмечалось, что у Качалова и здесь «был один чересчур громкий крик и... ни капли души», но общий тон оценки этой сцены был больше чем положительный, доходящий временами до апологетически-восторженных признаний.
«И тут развернулся Качалов — Гамлет! Тут он поднялся до высот гениальности и дал незабываемую сцену.
Когда во дворце поднялась тревога — королю стало дурно, — забегали тени, раздались шорохи, заволновалась толпа придворных, и, заглушенные толстыми стенами, глухие крики вырвались на сцену», — Гамлет — Качалов с такой экспрессией бросает в зал свой грозно-ликующий вопль о раненом олене, что «этот момент стоит всего спектакля»43, — писал критик газеты «Южный край».
Обратимся теперь к другим рецензиям, где имеются описания этой сцены. Артист «заставляет содрогнуться зрителей потрясающим криком... Все это захлестывает публику силой и блеском изумительно тонкой передачи, чему, конечно, много помогает чрезвычайно богатый и гибкий голос Качалова»44. «В самый миг катастрофы Качалов вырастает над троном. Он гипнотизирует короля. И, конечно, в развязке сцены он возвышает голос до крика, он неистовствует, он бегает, как зверь»45. И, наконец: «После сцены театрального представления Качалов очень эффектно, как дикий охотник, вскакивает на трон со своими знаменитыми словами: «Оленя ранили стрелой». Двор смятенно разбегается, и король летит впереди в животном страхе, забыв свое «величие», почти смешной, прыжками, позабыв облачение на троне... Гамлет в исступлении радостного упоения, в сознании рассеянных наконец сомнений пляшет какой-то хищный победный танец, развевая желтый плащ актера. Экстатически, до пляски потрясенный восторгом, он странен, дик, но понятен...»46.
Однако если у Мочалова в «Мышеловке» Гамлет испытывал прилив могучей и бурной страсти, не затухающей в течение третьего акта, и ничто, казалось, не в силах было сдержать ее нечеловеческий напор, то у Качалова это был яркий, впечатляющий, но короткий, быстро проходящий момент подъема.
Сцена «представления» — так, как она была поставлена по замыслу Крэга в Художественном театре, — требовала от актеров патетичности, экспрессии, стремительности. Но это отвлекало, уводило в сторону от того, что особенно хотелось Качалову передать в Гамлете и что он сам не совсем удачно определял словом «интимность», то есть от той внутренней сосредоточенности, «тончайшей искренности» и трагической сдержанности, которые так удачно намечались во время предварительной работы. Частично, особенно в первое время, при перенесении на сцену монументальные декорации Крэга и его планировка убивали эту «интимность».
Показательно, что сам Качалов, несмотря на широкий и заслуженный успех у публики, не считал «Мышеловку» одной из наиболее удачных и любимых своих сцен. Это происходило не потому, что он, по его собственным словам, «не настоящий трагический актер». Напротив, именно здесь он более всего приблизился к приемам, принятым на сцене для изображения трагического, к тому эффектному, традиционному патетическому театру, избежать которого он пытался в «Гамлете».
Рассказывая об этом, Качалов ссылался на то, что здесь, в «Мышеловке», как и в «Бранде», несмотря на огромный успех и восторг публики, он не получал полного, настоящего актерского удовлетворения, ибо изменял «переживанию» и временами прибегал к декламации, внешним актерским приемам, к приподнятости, доведенной до пафоса.
В спектакле МХТ в картине «Мышеловка» авансцена была превращена в подмостки дворцового спектакля. «Ширмы» были отодвинуты далеко вглубь. Там, отделенные от авансцены глубоким люком, на высоком троне восседали золотые король и королева, а по бокам в несколько рядов помещались придворные, тоже одетые в золотые, литые костюмы с плащами, напоминая собой бронзовые статуи.
Как сообщил Качалов Н.Е. Эфросу, в «Мышеловке» картина была взята «в чрезмерно большом масштабе, захватила все планы сцены. Это было эффектно, но это заставляло Гамлета излишне много передвигаться между крайними планами, делать крупные движения, давать подчеркнутость и в мимике, и в голосе». У артиста было такое чувство, точно он «на площади», и он сразу заметил в своем актерском самочувствии, что его «тянет на театральность, на условные сценические выражения подъема».
Качалов понимал, что здесь должна быть иная система игры, чем та, к которой стремились актеры Художественного театра, ибо в такой планировке нельзя было органически «жить» в образе, а надо было играть и голосом, и жестом, и движением, быть приподнятым и до известной степени «условным», чтобы соответствовать тем «масштабам» и «крупным планам», которых требовал Крэг.
К.П. Хохлов, игравший в «Гамлете» роль Горацио, рассказывал, что Качалов во время представления «Убийства Гонзаго» то сидел у ног Офелии, у борта люка, то вскакивал и бросался в люк, приближаясь к авансцене, на которой разыгрывалась пантомима. Горацио с мечом в руках стоял впереди, на самой авансцене, и, выглядывая из-за колонны портала, следил за королем.
«Переходы Гамлета — Качалова были быстры и стремительны, вспоминал Хохлов. — Иногда он приближался ко мне (то есть к Горацио), делая знаки, чтобы я следил за королем. Мы были как два заговорщика. Когда Качалов спускался в люк, то был виден публике лишь до пояса. Стоя внизу, как бы срезанный до половины, он опирался локтями на край площадки актеров и смотрел «представление». В эти мгновения хорошо были видны его лицо и руки. Король, королева, придворные сидели в отдалении, в полутьме. Лицо короля было едва различимо во мгле. Гамлет — Качалов почти все время находился спиной к королю. Чтобы взглянуть в лицо Клавдию или чтобы бросить ему реплику Качалов должен был поворачиваться назад, оказываясь на три четверти спиной к публике. В итоге за королем должен был следить один Горацио, и Гамлет воспринимал через него происходящее, воспринимал отраженно. Играть эту сцену Качалову было трудно и утомительно, так как приходилось много двигаться, переходить с места на место, бегать, то есть преодолевать слишком много пространства»47.
Качалов уставал от этих быстрых переходов. В одной из бесед он говорил мне, что, несмотря на то, что планировка Крэга была выразительна и красива, она была «неудобной для нас, актеров, так как люди были разобщены друг с другом. При таком размещении не могло быть «общения» и я был бессилен передать чувства Гамлета так, как хотелось».
Так же как и в сцене с Призраком, где Качалову «приходилось взбираться на высокий помост, в тяжелой шубе, было неудобно стоять», мешало резкое освещение, от которого болели глаза, в сцене «Мышеловка» было тоже много физических трудностей, идущих от неудобства мизансцен и освещения, которые приходилось преодолевать. Ослепленный лучом прожектора, направляемого временами прямо на Гамлета, Качалов не мог видеть лица Клавдия, погруженного во мглу. А это уже не только прерывало общение с партнером, не только мешало правильному самочувствию, но нарушало смысловую логику этой сцены, где Гамлет должен был зорко следить за королем и все время хорошо видеть его.
Крэг построил эту сцену на резких контрастах света и тени. Он намеренно погружал смотрящих «представление» в темноту, освещая только авансцену, где разыгрывалось «Убийство Гонзаго». Лишь скользящий луч света, бросающий «мрачный блик на золотые дворцовые одежды», подчеркивал эту «зловещую темноту», где росла тревога, переходящая потом в «невообразимое смятение».
Г. Крэг. «Мышеловка». Реплика: «Огня, огня, огня!» Гравюра на дереве. 1927
«...Зачем же так намеренно удалять персонажи вглубь, чтобы и лицо Гамлета, и лицо короля и королевы было можно брать только биноклем!» Почему все фигуры, лица, стены, ступени — все было освещено «лилово-зеленоватыми сумерками», что придает всему «фантастический характер»? Почему, наконец, во время «представления актеров» на сцене были феерические «лиловые, желтые, красные солнечные лучи»? — недоумевали рецензенты48, отмечавшие, что при таком освещении играть актерам было чрезвычайно трудно, так как их лица (даже Гамлета!) были едва видны, и это мешало следить за внутренним ходом той драмы, которую показывал здесь Шекспир. В этой сцене актеры психологического театра приходили в особенно острое противоречие с постановщиком, которому важно было здесь достичь ощущения целого путем намеренного «устранения» отдельных, индивидуальных образов, чтобы благодаря этому резче выявить символику действия, обнажающую трагическую ситуацию.
Крэгу казалось, что отдельные актеры в этой картине (даже Гамлет) не должны были интересовать зрителя сами по себе, а должны были быть подчинены ситуации, вскрывающей идею. Он категорически протестовал против намерения театра усилить освещение артистов, так как это, по его мнению, не только бы нарушило красоту сцены, испортило бы декорации («Мои ширмы!»), но и нарушило бы всю идею: «Тут не надо было вовсе никакого непрерывного переживания, никакой интимности!» — возбужденно восклицал Крэг. Он считал, что все должно быть крупно, резко, как сквозь увеличительное стекло. Основное в сцене — игра контрастов света, стремительный ритм и то впечатление тревоги, которое должно было символизировать катастрофу короля и триумф Гамлета. Он хотел достичь здесь именно этого, а не показывать поведение отдельных лиц.
«Крэг большой художник... Когда он говорит о линиях, рисунке, композиции и даже освещении, я чувствую, что это — Крэг, но когда вопрос касается режиссуры, то тут я не уверен: может ли он быть безусловно прав — слишком мало он интересуется актером», — писал Л.А. Сулержицкий К.С. Станиславскому после инцидента, разыгравшегося с Крэгом в последние дни перед премьерой, когда он в связи с намерением театра нарушить освещение «Мышеловки» категорически потребовал установить свет так, как он был им намечен, угрожая в противном случае разрывом с МХТ и снятием своего имени с афиши спектакля49.
Считая, что не Крэг, а Станиславский в действительности является главным режиссером «Гамлета», и стоя на позициях «актерского театра», Л.А. Сулержицкий писал: «...нахожу, что «Мышеловка» освещена неудачно. И если она имела успех на генеральной, то не благодаря освещению, а несмотря на это освещение. Все жаловались, что не видят Гамлета... Это освещение повредит спектаклю и Качалову...»
Станиславский вынужден был уступить здесь Гордону Крэгу, но не без внутреннего сопротивления, так как считал, что «в такой темноте играть нельзя, что ширмам хорошо, а актерам и спектаклю плохо».
Эта формула Станиславского отвечала настроениям участников спектакля, и под ней мог бы полностью подписаться и Качалов.
«Темпераментному актеру в крэговской постановке делать нечего, — писал по поводу «Гамлета» Л.М. Леонидов, органически не принимавший замысла режиссера, — даже Сальвини, великий могучий Сальвини золотых ширм Крэга не переиграет... Сцена должна быть отражением жизни, со сцены должна звучать художественная правда. Со сцены должно сверкать червонное золото Шекспира, а не позолота Крэга»50.
Леонидов чувствовал, что в «Гамлете» и характер декораций и их размеры не могут быть безразличными для актеров, что величественные монументальные «ширмы» Крэга, с их устремленностью вверх, в бесконечность, служат не возвышению, а «принижению» человека, подавляя его своими размерами. Леонидов был прав, когда утверждал, что в крэговской постановке вообще нельзя было просто и реально «жить и действовать», а «можно было только петь, что Качалов блестяще выполнил», так как «чудесным своим баритоном пропел партию Гамлета»51.
И действительно, за исключением одного лишь Качалова, который, не боясь сценической условности, наряду с глубиной переживания восхищал зрителей музыкальностью чтения стиха, пластической выразительностью и гармонией движений, почти все остальные актеры МХТ (кроме, может быть, Гзовской — Офелии) оказались во многом скованными, подавленными крэговской постановкой. Характерно, что и сам Леонидов — огромный актер, достигавший в Мите Карамазове подлинных вершин трагического, на репетициях «Гамлета» казался слишком нервным, стихийным и «бесформенным». Он не мог «играть» Гамлета, а должен был прострадать, промучиться ролью. И потому все, что он делал в Гамлете, было противопоказано тому, чего добивался Крэг, было в полном разладе с постановкой. «Я трагик в пиджаке», — говорил о себе Леонидов, ненавидевший всякую романтическую картинность и декоративную эффектность. В «Гамлете» он метался по сцене, исступленный, захваченный силой страстей и чувств, доведенных до накала, был резок и негармоничен в движениях, действовал как одержимый, с полной отдачей темперамента, совершенно не заботясь о внешнем рисунке, о пластической завершенности формы, которых требовал Крэг.
Неистовым, мятущимся, покоряющим не только страстностью темперамента, но и взволнованной, горячей, обжигающей мыслью, таким намечался Гамлет у Леонидова, более импульсивный и эмоциональный, чем качаловский, свободный от рефлексии, не колеблющийся. Сильнее всего Леонидов был в третьем акте, во время представления «Убийства Гонзаго» и в последующих моментах. Здесь, когда он был «в ударе», он буквально потрясал бурей и неистовством страсти. «Моментами у него действительно бывали мочаловские сцены (например, «Оленя ранили стрелой...»), которые Леонидов вел с гигантским трагическим насыщением и внутренней мощью», — рассказывал мне Н.В. Петров. А.Г. Коонен также вспоминает, что на одной из репетиций «Гамлета» Леонидов играл сцену «Мышеловки» так, что все присутствующие замерли от изумления. Это было не на сцене, а в условиях репетиционного помещения, без декораций и костюмов, в приблизительной выгородке. Об этом же свидетельствует и Б.М. Сушкевич.
Роль Гамлета была «заветной мечтой» Л.М. Леонидова. Стремясь к «театру потрясений», увлекаясь «безумным другом Шекспира» — великим Мочаловым, Леонидов буквально бредил этой ролью на протяжении всей жизни и, по свидетельству А.Д. Попова, даже собирался написать книгу: «Несыгранный Гамлет». К.П. Хохлов передавал, что Леонидов работал над Гамлетом с огромной энергией и увлеченностью. Когда у себя дома он читал и играл роль Гамлета, это было замечательно по силе трагизма. Когда же он репетировал на сцене, ему не хватало внешней сценической техники. В Гамлете он был слишком нервным, суетливым, с порывистыми, угловатыми движениями. «Это было ужасно! — воскликнул Хохлов. — Особенно в сцене дуэли. Леонидов был велик, когда его Карамазов бушевал в провинциальном трактире, но здесь, со шпагой в руке, он явно проигрывал. Плащ мешал ему, скульптурности поз не было. И вместе с тем он мог достигать таких потрясающих моментов, с которыми ничто не могло сравниться». Леонидовское исполнение Гамлета было эскизным, неровным, со взлетами и провалами. Роль не была завершена и в ней не было, как у Качалова, цельности и гармоничности замысла и воплощения, глубокого и последовательного утверждения философской концепции образа.
Крэг был максималистом. Он требовал от актеров почти невозможного — предельного совершенства, не считаясь ни с характером индивидуальности актера, ни с его реальными возможностями, школой, творческой системой и т. д. Он считал, что актеры, играющие трагедию, должны в первую очередь обладать гениально разработанным движением и музыкальностью. В «Гамлете» он упрямо хотел идеала, хотел, чтобы исполнитель обладал сверхмощным темпераментом, подобно великим итальянским трагикам, легкостью движений Айседоры Дункан, душевной грацией Элеоноры Дузе, способностью к мелодраматическим контрастам Генри Ирвинга. Крэг мечтал о таком несуществующем, идеальном актере, который один соединил бы в себе достоинства всех величайших артистов мира, так как никто из них сам по себе не удовлетворял его: Дункан могла бы танцевать в «ширмах» Крэга, но не могла говорить, Дузе чудесно бы говорила и хорошо двигалась, но в ней не было той отвлеченности, «построенности» и своего рода «симфонизма» движений, которых требовал Крэг.
Крэг настаивал, чтобы Качалов в «Мышеловке» был стремителен, как тигр, чтоб он метался по сцене, «как зверь в клетке». Но в то же время его движения должны были быть музыкальны, ритмизованы, доведены в пределе до танца, ибо, по его мнению, только через музыку, танец, маску может быть передано впечатление возвышенного и ужасного, необходимое для трагедии. Он видел в искусстве музыкальных движений изначальные средства театра, его «первооснову», идущую от древних театров Греции, Китая, Индии и Японии. Он мечтал о новой форме актерства, основанной главным образом на символических жестах, и считал себя жрецом могущественнейшей, «высшей силы — движения», которая должна создать новый, обновленный, синтетический театр.
Напомним, что монолог «Быть или не быть» Крэг хотел превратить в пантомимический дуэт Гамлета и Смерти. «Если эта фигура будет показываться и скрываться, это беспокойно, но и стоять неподвижно [нельзя] — это будет деревянно. Пусть она легко волнуется», — говорил он, и хотел, чтобы движения фигуры Смерти и Гамлета, внутренне связанные друг с другом, строились на музыке, сливались с ней, были ее воплощением.
Не случайно, что в беседах со Станиславским Крэг несколько раз возвращался к мысли о том, что «Гамлета», в сущности, можно было бы играть и без текста, как пантомиму, только посредством движений и жестов актеров. Интересно, что через несколько лет на занятиях в Студии на Бородинской Мейерхольд среди других пантомим-импровизаций поставил две сцены из «Гамлета» — «Мышеловку» и «Сумасшествие Офелии». Борясь с психологизмом Художественного театра и с «литературным подходом» к Шекспиру, Мейерхольд приходил к идеям, во многом сходным с идеями Крэга. Отделяя движение актера от слова, «очищая» игру от психологических деталей, стремясь обнажить драматическую ситуацию, «схему» действия, и используя опыт старинных театров Востока и Запада, Мейерхольд утверждал в те годы, что лишь в пантомиме может раскрыться для актеров и режиссеров «вся сила первичных элементов Театра: сила маски, жеста, движения и интриги»52. Развивая свои излюбленные идеи, Мейерхольд писал: «Современному актеру приходится постоянно рассказывать о том, что ни одному актеру старояпонской сцены, не прошедшему акробатической и танцевальной школ, не дано было стать трагическим актером»53.
Но Качалов был меньше всего «актером движения» в том понимании, которое вкладывали в этот термин Гордон Крэг, Вс. Мейерхольд и другие деятели театра той эпохи, утверждавшие, что искусство актера в первую очередь состоит в том, что он должен быть мастером движения, танцором, акробатом, жонглером. Показывая на макете движение куклы (плоской деревянной фигурки, изображавшей Гамлета), выстукивая ее ритм, выразительно и темпераментно объясняя наклоны и повороты, нужные ему, Крэг иллюстрировал это также ладонью руки или сложенным наполовину листом бумаги, который он то выпрямлял, то сгибал в зависимости от того, какой наклон будет придан телу Гамлета. Он представлял себе в сцене «Мышеловки» многообразие и сложность музыкальных движений. К.А. Марджанов называл эти показы Крэга «самыми изумительными, идеальными спектаклями», какие ему когда-либо приходилось видеть. Он писал, что крэговские манекены были необычайно выразительны и пластичны, «чаровали глаз»54. По существу, Крэг со своими кукольными фигурками был главным и единственным актером своего театра. Он постоянно многое менял, переделывал заражая присутствующих силой своего увлечения, своей художественной изобретательностью и фантазией. Но часто эти видения художника, его мизансцены создавались без учета человеческих и актерских возможностей.
А.Г. Коонен, присутствовавшая при этих показах, воспроизвела мне один из моментов, намечавшихся Крэгом. Ему хотелось, чтобы Гамлет, как бы несомый вихрем, стремительно приближался к ширме, согнув корпус, вытянув вперед наклоненные по направлению к земле руки, делая резкий, стремительный, но в то же время музыкально-пластический поворот туловища, и вся фигура его должна была тянуться кверху, поворачиваясь спиной к зрителю, в новом, необычайном ракурсе. Так играть Качалов не мог и не хотел.
И не случайно, что и сама Коонен, актриса музыкально-трагического театра, способная как раз «танцевать трагедию», владеющая, казалось бы, «искусством движения», нужным Крэгу (на пробных репетициях в МХТ Крэг часто заставлял ее, одетую в хитон, двигаться под музыку среди своих «ширм»), и она, несмотря на свою увлеченность талантом Крэга, вынуждена была признать, что он, охваченный своими мечтаниями, временами требовал совершенно невозможного, реально невыполнимого.
Г. Крэг. «Гамлет». Гравюра на дереве. 1929
Так, в сцене сумасшествия Офелии (в одном из ранних вариантов) была огромная лестница, из глубины сцены спускавшаяся почти отвесно прямо на публику. Офелия в припадке безумия должна была сверху, почти вниз головой, стремительно бросаться по ступеням, ни за что не держась (перил не было!).
Рассказывая об этой летящей по лестнице Офелии с безумными глазами, которая мерещилась Крэгу, Коонен выстукивала по столу стремительный ритм «пробега», чтоб показать исключительную сложность этого режиссерского задания. Но, несмотря на всю увлеченность этими далекими воспоминаниями, Коонен в то же время делала вывод о нереальности идей Крэга: «Это невыполнимо. Нет такого артиста, который мог бы это передать!»55.
Во время бесед и споров о «Гамлете», ища законы выразительных и точных музыкальных движений, Станиславский и Крэг неоднократно называли имя Дункан. На этом следует остановиться, хотя бы потому, что в отношении к Дункан особенно наглядно определилось различие их требований к актеру. Казалось бы, что пластическая выразительность и условность ее танца, свободное движение «раскрепощенного» человеческого тела, символика ее жестов должны были бы быть особенно близки Крэгу, который неоднократно с восторгом отзывался об искусстве Дункан, видел в нем подтверждение многих своих театральных верований56. Но, восхищаясь Дункан как танцовщицей, отдавая должное ее таланту, Гордон Крэг, однако, не считал ее пригодной для воплощения своих замыслов, а Станиславский, напротив, чувствовал в ней глубокую родственность своей «системе» и называл ее гениальной артисткой.
«Дункан — это не актриса», — утверждал Крэг, находя, что она слишком эмоциональна, лишена точности и расчета, что она «не танцует музыку», а раскрывает свои чувства, свои эмоции, которые пробуждает в ней музыка. И то, что так восхищало Станиславского, — Дункан от переживания инстинктивно идет к форме, которая является для нее свободным выражением чувства, — именно это и было существенным недостатком с точки зрения эстетических принципов Крэга. Он говорил даже, что Дункан (так же как и Дузе!) раскрывает в творчестве самое себя, свою индивидуальность, свою душу, и не способна передать чужой, предложенный режиссером замысел. «...Если бы она играла Шекспира, она... играла бы что угодно, но не Шекспира. Она не может чувствовать то, что хочет другой, а только то, что она сама чувствует»57. Он считал, что актер должен был быть в первую очередь мастером формы, виртуозом-техником, в совершенстве владеющим своим материалом для точного воспроизведения замысла, данного ему поэтом и постановщиком.
Характерно, что в отношении к Дункан Мейерхольд, так же как и Крэг, занимал позицию, противоположную Станиславскому. Мейерхольд не считал пригодным для театра принцип движений, разработанный Дункан, говорил о ее дилетантизме, неумении владеть своим телом, об отсутствии у нее техники и виртуозности мастерства, и сам он, экспериментируя в своей Студии, искал законов «нового движения» актера в ином, чем Дункан, направлении.
Стремление открыть новые, неизведанные возможности театра было как раз тем, что позволило временно сблизиться с Крэгом Станиславскому, в те годы так особенно напряженно и страстно искавшему путей к обновлению театра и установлению законов творчества актера. Но, в отличие от Крэга, понимавшего «идеальное» как нечто отвлеченное, уводящее от действительности в фантастику, мистику и символизм, Станиславский считал, что идеалом театра является обобщенно-образное отражение реальной жизни во всей ее глубине и типичности. И самое «возвышенно-поэтическое» он понимал как высшее выражение жизни, а не как нечто противоположное ей.
Крэг мечтал об отточенной актерской технике и хотел достичь невиданного ранее совершенного поэтического и музыкального искусства. В сущности, и самая пресловутая идея Крэга, выраженная символом актера — «сверхмарионетки», являлась отвлеченной идеей совершенства, которое мерещилось ему, но которого ему, «поэту нового искусства», трагически не удалось достичь. Несмотря на видимое стремление раскрепостить мастерство актера, Крэг, как никто иной, доказал своей практической деятельностью, что его «условный» символический «театр движения» шел как раз к закрепощению актера, к устранению его самостоятельности, к полному и безраздельному подчинению единой воле режиссера-художника.
Во время бесед со Станиславским в 1909 году Крэг раскрыл свои сокровенные замыслы по отношению к актеру. Считая актера «полуинструментом», точно и неукоснительно выполняющим чужой замысел (то есть замысел режиссера), Крэг мечтал разделить актера и человека, удалить из актера все «случайное», эмоциональное, человеческое, все, что может нарушить органическую стройность и цельность развития постановочного плана, все то, что может помешать актеру «внешне заученными движениями и лицом как маской» с кристальной четкостью и определенностью репродуцировать замысел единого творца спектакля. Психологичность, интимность, проявление индивидуальности актера, его личной творческой самостоятельности — все это, с точки зрения Крэга, было вредным для спектакля, ибо грозило уничтожить целостную символическую концепцию в том виде, как она возникла в созидающем уме режиссера-художника. «Вы, по-видимому, хотите, — говорил Крэг Станиславскому, — чтобы актер был в то же время и человеком, а вся моя теория в том, чтобы отделить человека от актера... Человек и актер всегда враги»58.
Развенчивая актеров, он мечтал об идеальном «сверхактере», о «трансцендентальном актере», что противоречило самому существу театра и должно было с логической неизбежностью привести Крэга к мысли о перенесении динамических задач театрального представления на марионеток, всецело подчиняющихся воле режиссера и законам «точного движения». Интересно отметить, что мотивы, которые побудили Крэга в XX веке мечтать об актере-сверхмарионетке близки тем мотивам, которые развивал Э.-Т.-А. Гофман в своих «Необычайных мучениях одного театрального директора». Здесь, как это было верно отмечено С.С. Мокульским, протягивается одна из многочисленных нитей от театральных теорий романтиков к исканиям деятелей условно-эстетического театра XX века59.
Опыт совместной работы Крэга с Художественным театром убедил его в том, что для того, чтобы практически реализовать свои театральные идеи и самому иметь возможность поставить «Гамлета» так, как он этого хотел, Крэг должен был бы годами создавать свой театр, свою школу, воспитывать актеров в принципах своего искусства.
В студиях МХТ Станиславский широко осуществил подготовку молодой артистической смены, воспитанной по его «системе», и разработал основы внутренней артистической техники. По направленности своих исканий в предреволюционные годы Вс.Э. Мейерхольд во многом был близок Крэгу. Однако несмотря на свою связь с символизмом и утверждение принципов условного театра, все же никогда, по существу, длительно не уходил от актера и в своей Студии на Бородинской практически разрабатывал принципы сценического движения и импровизации, закладывая основы будущей «биомеханики». В то же время Крэг в организованной им в 1913 году во Флоренции студии «Арена Гольдони», где имелся даже старинный «театр под открытым небом» и были созданы все условия для экспериментов, так и не сумел создать «нового актера», «вызвать новый театр к жизни», хотя в своих высказываниях и декларациях он всячески стремился к этому. Его Студия просуществовала лишь один год и была закрыта из-за начавшейся первой мировой войны. И хотя в программу ее и были включены занятия по речи и движению, гимнастике, фехтованию, танцам, импровизации и мимо-драме, но основное внимание было сосредоточено не на изучении актерской техники, не на вопросах воспитания актера, а на изучении элементов режиссуры, исканиях в области света, на создании эскизов декораций и костюмов, проектировке и изучении марионеток и кукловождения. Практически все свелось к созданию пяти больших макетов, о которых Крэг писал, что «они представляли собою зрительное воплощение моих мыслей, от которых зависит все мое будущее»60.
Крэг, как и Мейерхольд, во многом справедливо нападал на актеров МХТ за то, что, увлеченные передачей психологии, силой и глубиной душевного переживания, они порой забывали о необходимости совершенствования в выразительных средствах — о работе над дикцией, пластикой, движением, над ритмом и музыкой. Эти недостатки в последующие годы остро осознавал осам Станиславский.
Позднее, спустя почти три десятилетия, тот же упрек Художественному театру был брошен С.М. Михоэлсом. Михоэлс подчеркивал значение условного элемента в театре («...без него нельзя дышать в нашей работе. Условное ведет к настоящей правде в искусстве, нет условного вне воображения»), а также музыкально разработанного движения и жеста, то есть пластической стороны роли, чтобы не только через психологию, но и через форму, через пантомиму и жест вскрывать духовную сущность образа61. И не случайно, что именно в искусстве Михоэлса, этого мастера математически точных, обобщенных, доведенных до символа музыкальных движений и жестов, в созданном им образе короля Лира 63-летний Крэг увидел воплощение на театре «нового актера», которого он сам создать не мог и которого столько лет долго и безуспешно искал.
Крэга привели в восхищение сцены «хаоса», распада и безумия, тема одиночества, страдания, «бесприютности» Лира, экспрессионистически остро переданная Михоэлсом. Характерно, что Крэг полностью принял гибнущего Лира, которому открылись весь ужас и зло жизни. Ему особенно нравилась сцена безумия Лира, которую он находил изумительной. Но противоборство злу, гуманистический пафос и просветление Лира, определяющие идейную концепцию Михоэлса, оказались для него чуждыми62.
Споря с искусством Художественного театра, Крэг боролся за символ против образа, боролся против эстетической теории образного отражения жизни, реальной действительности. Для Крэга искусство явилось созданием иного, противоположного реальности, мира абстрактной красоты и гармонии. Борясь с реализмом и с реалистическим образом, являющимся художественным отражением подлинной жизни, как бы слепком с нее, квинтэссенцией жизненного, Крэг стремился поэтому заменить образ символом, схемой, условным знаком — носителем и выразителем абстрактных, трансцендентных идей.
«Нет, это признано. Театр есть образное искусство... Все искусство есть прежде всего образ», — возражал Станиславский Крэгу во время одной из бесед о «Гамлете», внутренне несомненно опираясь на близкие и дорогие ему принципы Белинского63. Этот спор Станиславского с Крэгом имеет для нас важнейшее значение.
Станиславский, как и Горький, вовсе не отвергал значение символа в искусстве. Но он стремился к реалистическому символу. Считая, что символ должен быть обобщенным, концентрированным выражением реальности, Станиславский в идеале стремился к тому, чтобы отточить до символа «духовный реализм» и считал, что основная причина неудачи ибсеновских спектаклей МХТ не в том, что реалистическое направление театра не уживалось с символическим, а в том, что исполнители оказались недостаточно реалистичны в области внутренней жизни пьесы. Станиславский видел в реалистическом искусстве Чехова огромное символическое содержание и мог бы повторить оценку Горького, что пьесы Чехова — новый род драматического искусства, в котором «реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа». Стремление Горького и Станиславского «возвысить» до символа реализм означало их стремление преодолеть ограниченность старого, критического реализма и поднять реализм до воплощения положительного идеала, до героического пафоса64. Вл.И. Немирович-Данченко утверждал в 1909 году, что актеры Художественного театра только путем внутренних переживаний могут прийти от «быта к символу» и что, «если актер не пройдет через реальные переживания образа, он не может дойти до глубокой жизненности этого образа и непременно будет трафаретным, картонным. И геройство должно быть у нас в жизненной простой передаче», — говорил Немирович, считая, что «только путем таких переживаний простоты можно подойти к трагическому»65.
А разве Качалов в некоторых своих совершенных созданиях не стремился «возвысить», «отточить до символа» реализм? В «Юлии Цезаре» он создал полный внутренней экспрессии и трагической силы образ римского диктатора, который можно было бы с полным правом назвать реалистическим символом66. В «Анатэме», образе, в свое время потрясшем Михоэлса, Качалов, отбрасывая все второстепенное и пережив главнейшее, дошел до преувеличения и гротеска, до трагического символа. Не случайно, что именно Михоэлс так восторженно оценил этот образ, в котором он ощущал «неукротимость гордого ума человека», «вызов пределам человеческого познания», «вызов всему непознанному, скрытому, неведомому, враждебно-таинственному»67. Вспомним только «маску» Качалова, его гротескную «мертвую» голову с бегающими, полными ужаса глазами, его скульптурные, исполненные вызова искривленные позы, его сатанинскую пляску в четвертой картине, когда Нуллус (Анатэма) вел хоровод в стиле Гойи навстречу Давиду Лейзеру, или, наконец, его чудом кажущиеся «эти ужасные движения ящерицы и тигра», этот «безумный бешеный рев», когда «нижняя челюсть по-собачьи жует и видишь Анатэму, ощерившегося, как тигр перед прыжком...»68. И разве в «Гамлете» не достиг Качалов, сохраняя искренность и правду переживания, огромного обобщенного философского звучания?
Г. Крэг. «Король Лир» (сцена «Бури»). 1920
Но Крэг стремился в «Гамлете» к иному пониманию символа, исключающему реализм. Он мечтал об экспрессивно-игровом театре, театре «большого стиля», где возвышенность и героизм, отличные от жизни, были бы доведены до степени «идеального», то есть до «благородной искусственности». Он хотел достичь действенно-зрелищных моментов, свойственных «театру представления». Сам он, как мы знаем, так никогда и нигде не смог воплотить свой идеал «символического», «нового искусства движения» и новой трагедии, вырастающей, как и у Ницше, из «духа музыки». Но это стремление к возвышенному, поэтическому, приподнятому над жизнью игровому театру позволило Крэгу, как это ни парадоксально, — Крэгу, автору статьи «Актер и сверхмарионетка», где он с такой яростью обрушился на «эмоциональные порывы актеров», — принять в итоге искусство так называемого «старого романтического театра».
Не случайно, что Крэг неоднократно выступал с апологией искусства итальянских актеров. Об этом говорил он в беседах и на репетициях «Гамлета» в МХТ, об этом писал он в посвящении к своей книге «К новому театру», это же, наконец, неоднократно повторял он и в Москве в 1935 году. Считая, что к трагическому путь идет только через условность, через искусственность («нечто до такой степени свойственное искусству, что разрушать его весьма опасно»), Крэг все чаще и чаще обращался взором к этой уходящей романтической актерской традиции, видя в ней утверждение принципов, противоположных искусству современного психологического реализма. Не случайно и то, что у Крэга год от года возрастал культ Генри Ирвинга, который стал казаться ему «идеалом актера», пожалуй, единственным кто, по его признанию, мог бы быть «настоящим» Гамлетом в его московской постановке. Гордон Крэг подчеркивал, что самая техника так называемого «романтического театра», с ее музыкой речи и пластикой движений, была необходимой технической предпосылкой для передачи на сцене трагических героев.
Понимая романтизм как внутреннюю устремленность к поэзии, к благородным, возвышенным чувствам и идеалам, Художественный театр в лице и Станиславского и Немировича-Данченко со всей страстностью и нетерпимостью восстал вместе с тем против понимания романтизма как определенной театральной манеры, стиля, суммы приемов, будто бы единственных и обязательных для изображения на сцене героического характера. «Для меня и для Константина Сергеевича с первых шагов Художественного театра это искусство всегда было фальшиво от начала до конца», — говорил Вл.И. Немирович-Данченко в 1940 году, считая «романтизм» устаревшей и даже ложной формой театрального искусства. Художественный театр ставил своей задачей открыть неведомые предшествующему искусству источники нового, глубочайшего трагизма и выразить этот трагизм путем «искренности, простоты и глубины переживаний», лишенных всего искусственного и приподнятого. «Я хочу изгнать из театра театр», — неоднократно говорил Станиславский, пытаясь раскрыть героическое вне идеализации и романтических котурн — через характерность и правду переживаний. В противоположность Крэгу он отрицал старый «романтический театр» именно за то, что там сценическое искусство было сознательно приукрашено, идеализировано, противопоставлено реальности, и видел основную задачу «Гамлета» не в создании мелодраматического героя, сверхчеловека, а в создании героического и в то же время жизненно естественного и мужественного характера. Он стремился и в Шекспире достичь той «изумительной простоты», которая, по выражению Немировича-Данченко, «может быть, самая глубокая и основная черта русского искусства»69.
«...Наша новая трагедия будет более простой. Шекспир ежеминутно впадает в риторику, потому что ему нужно было растолковать то или иное положение своей драмы грубой публике, у которой было больше мужества чем тонкости»70, — писал в 1823 году «исследователь человеческих характеров». Анри Бейль. И это утверждение Стендаля, одного из родоначальников психологического реалистического романа XIX века о новой по сравнению с Шекспиром трагической простоте и глубине психологического анализа как бы предвосхищает мысли Станиславского и Немировича-Данченко, стремившихся приблизить Шекспира, освобожденного от некоторых особенностей его стиля и от «печати театральных вкусов его эпохи», к требованиям современного им психологического реализма.
Процесс развития литературы в XIX веке показывает, что постепенно трагическое все больше и больше перемещается из сферы драмы в сферу романа. «Подлинная трагедия у нас запечатлена именно в романе, а не в драме», — говорил Немирович-Данченко, пришедший к мысли о необходимости инсценировать крупнейшие произведения национальной литературы. В романах Толстого и Достоевского театр ощущал величайшую драматическую напряженность, трагическую мощь страстей. И именно в «русской трагедии» наряду с И.М. Москвиным и В.И. Качаловым развернулся во всю ширь могучий трагический талант Л.М. Леонидова, актера, заветной мечтой которого было сыграть Гамлета.
«Когда говорят, что Художественный театр не может ставить Шекспира, я отвечаю: чем спектакль «Братья Карамазовы» ниже самого сильного шекспировского спектакля?» — полемически утверждал Немирович-Данченко в 1940 году, борясь с защитниками «романтического театра». «С моей точки зрения, тот огромный подъем страсти, какой охватывал Москвина в «Царе Федоре» или в Мочалке, Леонидова, Германову, Качалова... этот подъем, этот пафос, вместе со всем тоном всей постановки «Братьев Карамазовых», сохраняя самую глубокую жизненную правдивость, уносил все представление в область большой поэзии. А большая поэзия и есть самая главная сущность Шекспира»71.
Несомненно, различие в характере реализма Шекспира и реализма художественников существовало и отчетливо ощущалось и самим театром и его современниками. Это различие обычно рассматривалось дореволюционной критикой как нечто непреодолимое. Тем, кто был увлечен реализмом Толстого, Чехова, Ибсена, сценическими открытиями Художественного театра, казалось даже, что Шекспир уже устарел и в значительной степени утратил интерес для современности. Вспомним, что сам Толстой в своей статье «О Шекспире и о драме», получившей широкую известность, со всей резкостью и категоричностью «низвергал» творчество великого английского драматурга, отрицая его не только с позиций своего мировоззрения, но и своей художественной системы, с позиций своего понимания реализма. Напротив, приверженцы «старого театра», отрицая завоевания МХТ и новой драматургии, противопоставляли им Шекспира, видя в нем оплот «романтических традиций» XIX века и отошедших в прошлое условных сценических канонов.
Л.Я. Гуревич, внимательно и сочувственно наблюдавшая за успехами молодого Художественного театра в современной драматургии, дав в своей рецензии 1904 года общую восторженную оценку работы театра над «Юлием Цезарем», писала, что Шекспир «во многом уже чужд современной душе и современным художественным приемам»72. Мысль об «устарелости» Шекспира, о том, что его реализм, раскрывавший «всю возможную для своего времени правду», является для XX века уже ограниченным, пройденным этапом художественного развития, высказывалась рядом критиков, в том числе и таким яростным и принципиальным противником МХТ, как А.Р. Кугель, считавшим, что современный трагический театр развивается под знаком Ибсена и Достоевского. «Жизнь усложнилась; усложнилась и правда. Открыты новые бездны в глубинах духа. Великий инквизитор, заточающий Христа, — непонятен Шекспиру и немыслим для него, — писал Кугель в одной из своих статей. — При всем преклонении перед Шекспиром, мы не можем не признать, что не только с точки зрения вечно совершенствующейся формы, но и по существу, искусство и театр ушли вперед»73.
Л.Н. Андреев, один из восторженных почитателей Художественного театра, усиленно толкавший его на путь откровенного субъективизма и «панпсихизма», утверждал в своих «Письмах о театре», что «даже величайший и до сих пор бесспорный психолог Шекспир ужасающе непсихологичен, когда к нему подойти с требованием правды душевной, как подошел Толстой». Заявляя, что Шекспир, как и «весь старый театр», — это «театр притворства», противоположный «новому театру», «театру правды», каким он считал Художественный театр, Андреев призывал отказаться от изображения всякого «действия» и «зрелища» и замкнуться только в изображении «глубин души» и «интеллектуальных переживаний».
«Шекспир — это поза, актер — игра вовсю, блестящий узор слов самодовлеющих, пышность театральная, — писал Андреев. — Но подойти к Шекспиру с требованием правды душевной, ее душевной железной логикой и простотой — это значит убить Шекспира, как убил его в «Гамлете» Художественный театр»74.
Но Леонид Андреев жестоко ошибался, видя в произведениях Шекспира только «позу», «игру вовсю» и «театр притворства» и не видя, что МХТ подходил к самому существенному и ценному в Шекспире и не только не «убивал» его, а стремился раскрыть новые стороны в нем, неизвестные прежде, в том числе и неведомые великим романтическим актерам.
Гуманистическая направленность творчества, сложность и точность анализа мотивов поведения человека, строгая логика и последовательность действий и поступков, сила и глубина душевного переживания при «сдержанной и чрезвычайно простой форме» и органичности сценического поведения — вот те бесспорные завоевания, которые привносил в исполнение Шекспира Художественный театр, и в первую очередь Качалов своим исполнением ролей Юлия Цезаря и Гамлета.
«Основа нашего искусства — живая правда, живой человек. Ни в какой степени это не означает приземистости, мелочности, натурализма», — утверждал Немирович-Данченко, видя в этом основную направленность искусства Художественного театра, его тягу к одухотворенному, поэтическому творчеству. Поэтому, в полемике с защитниками театральной «романтики», боясь впасть в фальшь внешнего героизма, искусственный пафос и декламационность, МХТ и в произведениях Шекспира пытался достичь жизненной и психологической достоверности, искренности и простоты сценического выражения с той же убедительностью и полнотой, как и при постановках Чехова и Толстого, временами впадая в излишнюю бытовую и психологическую детализацию. Аналитический метод воссоздания на сцене живого человека, подробная разработка психологических мотивировок, «подтекста» и «душевной партитуры» пьесы и ролей, проводимые со всей последовательностью трезвого и беспощадного «толстовского» реализма, частично оказывались в противоречии с поэтическим строем художественного мышления Шекспира, приводили порой к ненужной перегрузке подробностями, прозаизму, к измельчанию мощных и ярких героических характеров Возрождения, поражающих своей цельностью и монументальностью. В том, что МХТ не был в состоянии решить до конца проблему синтеза героического и человеческого, несомненно сказалась ограниченность его искусства, коренившаяся в том кризисном состоянии, которым была отмечена духовная жизнь русской интеллигенции в предреволюционные годы.
«Я понял, — писал Станиславский, подводя итог постановке «Гамлета», — что мы, артисты Художественного театра, научившиеся некоторым приемам новой внутренней техники, применяли их с известным успехом в пьесах современного репертуара, но мы не нашли соответствующих приемов и средств для передачи пьес героических, с возвышенным стилем, и нам предстояла в этой области огромная, трудная работа еще на многие ГОДЫ»75.
И в этой работе МХТ и Качалову было не по пути с Крэгом.
Горький, видевший в Шекспире непревзойденного мастера в раскрытии цельного героического характера, Горький — носитель активного героического начала, выступая против отдельных ошибочных тенденций репертуара Художественного театра, призывал к духовному здоровью, деянию, а не самосозерцанию76. Борясь с ошибками Художественного театра во имя его защиты от влияния общественной реакции и искусства декаданса, Горький мечтал о новом, героическом реализме, о новом театре, где реализм и героический пафос сольются вместе, ибо новый реализм должен быть романтическим, а новая романтика должна иметь своим истоком реальные основания.
И если в поисках героического и возвышенного искусства Крэг звал МХТ к «театру мистерий», чтобы, отгородившись от литературы и общественности, замкнуться в мир «чистого искусства», то Горький призывал к новому, героическому реализму, «реализму людей, которые изменяют мир». И только этот путь мог быть единственно плодотворным для реального и в то же время героического раскрытия Шекспира.
Примечания
1. Г. Крэг, О привидениях в трагедиях Шекспира. — В книге: «Искусство театра», Спб., изд. Н.И. Бутковской, стр. 155—157.
2. Г. Крэг, Искусство театра, стр. 28.
3. Г. Крэг был приглашен в Англию для оформления «Макбета» в «Театре его Величества», руководителем которого был режиссер и актер. Герберт Бирбом Три. Совместная работа с Крэгом, как и следовало ожидать, не дала практических результатов.
Эскизы Г. Крэга к «Макбету», датированные 1908, 1909 и 1910 годами, воспроизведены в его книге: «Towards a New Theatre», London, 1913.
В 1928 году Крэг делает для М. Тайлера (Нью-Йорк) эскизы к «Макбету», две репродукции с которых помещены в книге: Janet Leeper, Edward Gordon Craig. Designs for the Theatre, 1948.
4. К.С. Станиславский, Собр. соч., т. 1, стр. 342.
5. См. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. 1. М., 1946, стр. 652—653.
6. Немецкое издание «Гамлета» в переводе Г. Гауптмана с 75 гравюрами Г. Крэга было выпущено в 1929 году издательством «Кранах» в Веймаре («Hamlet». Übersetzt und Eingerichtet von Gerhart Hauptmann, Mit 75 Eigurinen und Holzschnitten von Edward Gordon Craig [«Der Cranach Presse», Weimar]). На английском языке эта книга вышла в том же издании в 1930 году.
С 1912 по 1929 год Крэг был погружен в работу для кесслеровского издания «Гамлета», «вырезывая по дереву, вырезая из бумаги и печатая, и таким образом более чем 60 фигурок и деревянных досок прибавились к дюжине или около того», сделанных для Художественного театра, сообщает Дж. Липер в книге «Эдвард Гордон Крэг. Рисунки для театра» (изд. Певзнер, серия «Penguin Books», 1948). Наряду с Гамлетом и его Демоном (1909), Духом отца Гамлета, Актером на котурнах, в «лесе перьев», несущим атрибуты своего ремесла (1912) и др., возникли гравюры второго Могильщика с лопатой (1913); Гамлета, приветствующего актеров; Актера-короля, спящего в беседке, в то время как Отравитель приближается к нему с противоположной страницы, через разделяющий их текст книги, чтобы влить ему яд в ухо; двор, охваченный смятением, король, вскочивший с трона, придворные, кричащие: «Огня! огня! огня!» (1927) и пр. В этих иллюстрациях к книге ощущаются отзвуки художественных идей Крэга, частично реализованных в «Гамлете» МХТ.
7. Беседа Гордона Крэга с К.С. Станиславским, 25 апреля 1909 г. Запись Л.А. Сулержицкого, Музей МХАТ. Архив К.С., № 1279, л. 29.
Художник Клавдий Сапунов, по эскизам которого осуществлялись костюмы к «Гамлету» в МХТ, первоначально добивался в облике Духа отца Гамлета впечатления доспехов и костей скелета. Эскиз этот, как и эскиз Крэга, не был осуществлен. Одно время предполагалось, что Дух будет появляться в трагической маске, чтобы усилить впечатление торжественности и ужаса (см. «Протоколы репетиций» «Гамлета» за 191 1 г.).
8. Музей МХАТ. Архив К.С., № 1285.
9. Г. Крэг, Письмо к К.С. Станиславскому, 5 сентября 1909 г., «Арена Гольдони», Флоренция. Музей МХАТ. Архив К.С., № 2116 (перевод с английского).
10. А.В. Рыков, Мейерхольд и мои встречи с ним. Рукопись, 1960.
11. Беседа Гордона Крэга с К.С. Станиславским, 16 апреля 1909 г. Запись Л.А. Сулержицкого (Музей МХАТ. Архив К.С., № 1278) (разрядка моя. — Н.Ч.).
12. Однако В.И. Качалов, О.Л. Книппер-Чехова, О.В. Гзовская, Н.О. Массалитинов, И.Н. Берсенев, Б.М. Сушкевич, А.Г. Коонен, К.П. Хохлов и другие отрицают факт участия А. Дункан в репетициях «Гамлета». Нет упоминаний об этом и в «Протоколах», фиксирующих работу над этой постановкой. Или К.С. Станиславский ошибся, возможно только предполагая пригласить Дункан, но не осуществил этого практически, или же эти опыты с нею проводились им вне стен Художественного театра.
13. Беседа с А.Г. Коонен и А.Я. Таировым, 18 октября 1945 г.
14. «Братья Карамазовы» были поставлены МХТ в 1910 году, то есть тогда же, когда Крэг опубликовал срою статью «О пр ведениях в трагедиях Шекспира». Напомним, что в 1910 году должен был быть осуществлен и «Гамлет», замененный «Карамазовыми» и перенесенный театром на 1911 год из-за болезни К.С. Станиславского.
15. Музей МХАТ. Архив К.С., № 1291.
16. См.: М.М. Морозов, Избранные статьи и переводы, М., Гослитиздат, 1954, стр. 460..
17. Мысль показать «Гамлета» без тени умершего короля уже давно волновала многих актеров. Так, например, Тальма, игравший в французской переделке трагедии Шекспира, передавал впечатление видения только мимикой. То же самое в третьем действии делал и «русский Тальма» — В.А. Каратыгин. А.П. Ленский рассказывает об одном актере, который «мечтал о том, чтобы дух в «Гамлете» не произносил ни слова, а его речи говорил бы глухим голосом сам Гамлет» (см.: А.П. Ленский, Заметки актера. — «Артист», 1894). Если в 90-х годах прошлого века А.П. Ленский больше чем неодобрительно отнесся к этой идее, назвав ее «назойливым умничанием», то в первые десятилетия XX века режиссеры и актеры настойчиво ищут новых приемов изображения Духа отца Гамлета. Б. Глаголин в книжке «За кулисами моего театра», изданной в Петербурге в 1911 году (год постановки «Гамлета» в МХТ), утверждал, что диалог с тенью для Гамлета есть не что иное, как «разговор с самим собою, со своей совестью, с богом...», и предлагал даже всю первую картину представить как галлюцинацию Гамлета.
В начале 1910-х годов П.П. Гайдебуров, во второй редакции «Гамлета», осуществленной им совместно с А.П. Зоновым в Передвижном театре (в первой редакции «Гамлет» шел в постановке А.Я. Таирова), впервые на русской сцене показал «Гамлета» без тени отца Гамлета, используя лишь прямой, падающий сверху вниз луч света. Гайдебуров рассказывал, что Гамлет входит в световой луч и как бы ощущает отца в себе (сообщено П.П. Гайдебуровым в августе 1946 г.).
Н.Н. Синельников тоже был захвачен «духом времени» и в своей постановке «Гамлета» в 1914 году трактовал появление тени как результат расстроенного воображения принца (см.: Н.Н. Синельников, Шестьдесят лет на сцене. Харьков, 1935, стр. 270).
18. Музей МХАТ. Архив Р.Ч., № 122.
В феврале—марте 1909 года, в первоначальном, так называемом «докрэговском» плане постановки «Гамлета» в МХТ Станиславский, чтобы усилить атмосферу фантастического и таинственного в сцене Гамлета с духом (действие 1-е, картина 5-я), предполагал использовать прием, найденный им в «Ганнеле». Художник В.Е. Егоров, делавший эскизы декораций к «Гамлету» в МХТ, сообщил мне, что посредством изменения освещения тень от актера, играющего Духа отца Гамлета, в определенные моменты должна была расти, подымаясь до самого верха сцены, подобно крыльям ангела в «Ганнеле». И эта огромная, перемещающаяся и колеблющаяся черная тень, меняющаяся в своих размерах, то увеличивающаяся, то совсем исчезающая, должна была создать впечатление призрачности, таинственности (из беседы с В.Е. Егоровым, 5 декабря 1934 г.).
19. Г. Крэг, Искусство театра, стр. 163.
20. М. Морозов, Заметки о «Гамлете». — «Театр», 1939, № 4, стр. 50.
21. Вл.И. Немирович-Данченко, О театре романтическом и реалистическом, 1940 г. — «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. 1. М., 1946, стр. 12.
22. Об исполнении Блоком Гамлета см. в книге: М.А. Рыбникова, А. Блок — Гамлет, М., «Светлана», 1923.
В этом спектакле (сцены из «Гамлета») роли принца датского и короля Клавдия исполнял Ал. Блок, роль Офелии — пятнадцатилетняя Любовь. Дмитриевна Менделеева, будущая жена поэта.
23. W. Widmann, Hamlets Bühnenlaufbahn, S. 105—106.
24. Л.Л., Представления гг. Каратыгина и Сосницкого на московской сцене. — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 25, стр. 494.
25. Н.Е. Эфрос, «Гамлет» в Художественном театре. — «Рампа и; жизнь», 1912, № 2, стр. 9.
26. Запись О.В. Гзовской на экземпляре роли Офелии (1911), фиксирующая указание режиссуры.
По словам О.В. Гзовской, перед монологом «Быть или не быть» Полоний уводил Офелию наверх по узкой, как щель, лестнице. После слов Гамлета: «Но если сон виденья посетят?» — Полоний с силой выталкивал ее на две-три ступеньки вниз. Офелия — Гзовская останавливалась. Луч света падал на ее лицо, из глаз ее текли слезы. Она не вытирала их, и они лились все время. На слова Гамлета: «Да, только страх чего-то после смерти — страна безвестная, откуда путник не возвращался к нам», — она уходила из полосы света вниз, в темноту, и стояла, прижавшись к стене. Потом выходила на свет, делала два шага вперед, так что Гамлет — Качалов, идя с опущенной головой, почти что натыкался на нее.
27. Из бесед с О.В. Гзовской 6 января 1935 г. и 3 августа 1945 г.
28. Н. Вильде, После представления «Гамлета». — «Голос Москвы», 28 декабря 1911 г.
29. М. Шагинян, Литературный дневник. Обновленный Гамлет. — «Приазовский край», Ростов-на-Дону, 15 января 1912 г.
30. Смоленский, «Гамлет» в Московском Художественном театре. — «Биржевые ведомости», вечерний выпуск, 4 апреля 1912 г.
31. Там же (разрядка моя. — Н.Ч.).
32. Записи репетиций К.С. Станиславского и Л.А. Сулержицкого по «Гамлету» в МХТ с 16 по 26 октября 1911 г. Рукопись неустановленного лица. Музей МХАТ. Архив К.С., № 1297.
В статье Б.И. Ростоцкого и Н.Н. Чушкина «Образы Шекспира в творчестве В.И. Качалова» (в книге: «Василий Иванович Качалов. Сборник статей, воспоминаний, писем». М., 1954) эти слова ошибочно приписаны К.С. Станиславскому. Основанием этого послужило то, что данная рукопись хранилась в личном архиве Станиславского и на ней имеются его собственноручные исправления. Однако по «Протоколам репетиций» удалось установить, что 18 октября 1911 года репетиции «Гамлета» проводились и Станиславским и Сулержицким, но сцену в спальне королевы, о которой идет речь, репетировал Сулержицкий.
33. Ал. Блок. «Король Лир» Шекспира. Речь к актерам, 31 июля 1920 г. (Собр. соч. в восьми томах, т. VI, 1962, стр. 409).
34. К.С. Станиславский, Режиссерский экземпляр «Гамлета», действие III, картина 4-я, 1910 (Музей МХАТ. Архив К.С.).
35. Во время бесед режиссуры с Г. Крэгом о «Гамлете» было выяснено, что русский перевод местами неправильно передает внутреннюю сущность шекспировского текста. При разборе картины «Спальня королевы» Крэг помог режиссуре МХТ устранить ряд неточностей перевода А. Кронеберга, которые приводили к существенному изменению смысла (см.: К.С. Станиславский, Собр. соч., т. 1, стр. 338).
36. Л.Я. Гуревич, «Гамлет» в Московском Художественном театре. — «Новая жизнь», 1912, кн. 4, стр. 201—202.
37. А.Р. Кугель, В. Качалов. Жизнь и творчество. М.—Л., «Кинопечать», 1927, стр. 18—19.
38. Высказывание Вл.И. Немировича-Данченко 9 декабря 1938 г. на репетиции «Половчанских садов» Л. Леонова в МХАТ (воспроизвожу по своей записи, сделанной на репетиции).
39. Н. Эфрос, «Гамлет» в Художественном театре. — «Речь», 24 декабря 1911 г.
40. «Гамлет» в Художественном театре. — «Русские ведомости», 24 декабря 1911 г.
41. А. Койранский, «Гамлет» на сцене Художественного театра. — «Утро России», 24 декабря 1911 г.
42. Б. В-ская, Критика о Качалове (1900—1915). М., 1916, стр. 178.
43. А. Львович, «Гамлет» (премьера Художественного театра). — «Южный край», Харьков, 28 декабря 1911 г.
44. Г. Вяткин, «Гамлет» в Художественном театре. — «Сибирская жизнь», Томск, 1 января 1912 г.
45. Смоленский, «Гамлет» в Московском Художественном театре. — «Биржевые ведомости», вечерний выпуск, 4 апреля 1912 г.
46. З. Шадурская, «Гамлет» в Московском Художественном театре. — «Новая жизнь», 1912, № 2, стр. 163.
47. Из беседы с К.П. Хохловым, 22 ноября 1946 г.
В беглых карандашных пометках, сделанных во время репетиций на полях роли, Качалов отмечает, что, когда убийца вливает яд в ухо спящего короля, «Гамлет переход[ит] вниз». Далее, при словах Офелии: «Что это значит, принц?» — Гамлет «переходит к Офелии», так как она ему нужна для определенной цели («Хочу заинтересовать короля через Офелию»). Во время слов Пролога: «Для нас и представленья, мы просим снисхождения...» — Гамлет «переход[ит] опять к Офелии». При вопросе: «Как вам нравится пьеса, матушка?» — Качалов отмечает, что Гамлет «поднимается к королеве» и ее «успокаивает в шутовском тоне». Когда на сцену выходит Луциан, Гамлет «спускается мимо Офелии — вниз, может быть, дошел до Горацио». Около слов Гамлета: «Начинай, убийца! Брось глупое кривлянье, и начинай. К делу...» — имеется следующая пометка Качалова, отмечающая местоположение Гамлета: «здесь, внизу», то есть в люке, и его состояние в этот момент — «разозлился, нетерпение».
Последующие пометки указывают на стремительное, действенное нарастание сцены. «Открытое наступление» — так характеризует здесь Гамлета Качалов.
48. См.: «Биржевые ведомости», вечерний выпуск, 4 апреля 1912 г.; «Обозрение театров», 6 апреля 1912 г.; «Новое время», 30 декабря 1911 г. и др.
49. Л.А. Сулержицкий, Письмо к К.С. Станиславскому, 23 декабря 1911 г. — «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I. М., 1946, стр. 316.
О скандале с Крэгом, разыгравшемся во время показа «Мышеловки», мы имеем целый ряд свидетельств. Приведем одно из них: по плану Крэга «свет должен был падать столбом из верхних окон — тогда создавалась бы темнота под потолком, которая увеличивала бы высоту и массивность дворца, — вспоминает художник В.А. Симов. — Освещение вышло не то: софиты давали рассеянный свет, а конусных прожекторов не зажгли. Лицо Крэга, как сейчас помню, нервно изменилось. Не обращая внимания на игру Качалова — Гамлета, он перескочил через кресло и быстро удалился из партера. Произошло замешательство. Репетиция оборвалась. Джентльмен превратился в раненого льва...» (В.А. Симов, Моя работа над «Живым трупом». — «Театр и драматургия», 1935, № 11, стр. 27—28).
О споре Станиславского с Крэгом по поводу освещения см. также переписку Станиславского и Сулержицкого о «Гамлете», напечатанную в «Ежегоднике МХТ» за 1944 г. (М., 1946, стр. 315—317), и книгу: Серафима Бирман, Путь актрисы (ВТО. М., 1959, стр. 56—57).
50. Приведено в статье: Л. Гроссман, Стиль Леонидова. — «Театр», 1947, № 4, стр. 54.
51. Л.М. Леонидов, Письмо к Вл.И. Немировичу-Данченко, 9 ноября 1939 г. (Цит. по сб.: «Леонид Миронович Леонидов», стр. 367. Разрядка моя. — Н.Ч.).
52. Вс. Мейерхольд, О театре, Спб. (1913), стр. 151.
53. [В с. Мейерхольд], Возрождение цирка. — «Вестник театра», 1919, № 9, стр. 4—5.
54. «К.А. Марджанишвили (Марджанов). Творческое наследие», Тбилиси, «Заря Востока», 1958, стр. 56—57.
55. Из беседы с А.Г. Коонен, 18 октября 1945 г.
То, о чем рассказывает А.Г. Коонен, очевидно, один из многочисленных вариантов «исканий» Крэга, который часто на одну и ту же тему делал множество проб. В сохранившихся записях мизансцен четвертого акта (от 5 и 6 апреля 1910 г.) дана не только совершенно другая планировка, но и иная характеристика Офелии в сцене сумасшествия. Вообще в известных мне материалах о «Гамлете» в МХТ нигде нет упоминания о бегущей трагической Офелии с безумными глазами и о лестнице, по которой она должна была стремительно лететь вниз.
56. Г. Крэг впервые увидел Дункан в 1905 году в Берлине. Впечатление от ее танца он выразил в рисунках, изданных в Лейпциге и снабженных введением в манере Уитмена («Isadora Duncan, Six Movement Designs», The Insel-Verlag, Leipzig, 1906).
Сама Дункан так рассказывает о своей первой встрече с Крэгом: «Вы чудесны! — воскликнул он. — Вы удивительны! Но зачем вы украли мои идеи? ...Они принадлежат мне! Это мои идеи. Но вы — то существо, которое я себе представлял перед моими декорациями. Вы воплотили в жизнь все мои мечты» (Айседора Дункан, Моя жизнь, М., «Федерация», 1930, стр. 153).
57. Беседа Гордона Крэга с К.С. Станиславским, 24 апреля 1909 г. Запись Л.А. Сулержицкого, Музей МХАТ. Архив К.С., № 1279.
58. Там же (разрядка моя. — Н.Ч.).
59. См.: С. Мокульский, Судьбы комедии масок в буржуазном театре. — «Ученые записки» Гос. педагогического института им. Геоцена и Гос. института научной педагогики, т. II, вып. 1. Л., 1936, стр. 343—344.
60. Janet Leeper, Edward Gordon Craig, Designs for the Theatre, «Penguin Books», 1948, p. 27.
Показательно, что в письме от 20 февраля 1911 года Г. Крэг предлагал К.С. Станиславскому и Художественному театру, что если они создадут ему школу-студию во Флоренции, то он сможет через год продемонстрировать им «принципы движения человеческого тела», через два года — движение отдельных фигур и групп, через три года — принципы управления движением и голосом. И только после этого он сможет демонстрировать принципы импровизации (со словами и без слов).
61. См.: С.М. Михоэлс, С чего начинается полет птицы? — «Литературная газета», 26 мая 1939 г.
62. Из беседы с С.М. Михоэлсом, 18 октября 1946 г.
Г. Крэг шел на спектакль «Короля Лира» в ГОСЕТ с недоверием и предубеждением, которого он и не скрывал. Он даже обратился в театр с просьбой предоставить ему такое место, чтоб он мог встать и уйти, когда ему заблагорассудится, даже не дожидаясь окончания акта.
Но вот первый акт «Лира» кончился, и Крэг не только не ушел из театра, а побежал за кулисы к Михоэлсу, потрясенный и взволнованный. За время пребывания в Москве он еще четыре раза смотрел этот спектакль. Причем не просто смотрел, но изучал его внимательнейшим образом, заглядывая в английский текст, делая заметки и т. д., так как открыл в этом «Лире» нечто для себя новое, чего он не знал прежде.
63. Характерно, что Станиславский непосредственно сослался на В.Г. Белинского во время беседы с Г. Крэгом 24 апреля 1909 года, при обсуждении образа Офелии.
64. См.: Б.А. Бялик, Горький в борьбе с театральной реакцией, стр. 157—158.
65. «Возвращение к актеру». Беседа Вл.И. Немировича-Данченко с сотрудником «Русского слова» (цит.: «Обозрение театров», 25 октября 1909 г.).
В той же беседе Немирович-Данченко указывает, что «на другой половине театра» тех же художественных задач, но своими путями добивается К.С. Станиславский как в «Месяце в деревне», так и в «Гамлете».
66. Об исполнении В.И. Качаловым этой роли см. в статье Б. Ростоцкого и Н. Чушкина, «Юлий Цезарь» на сцене Московского Художественного театра» (в кн.: Вл.И. Немирович-Данченко, Режиссерский план постановки трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», М., «Искусство», 1964).
67. С.М. Михоэлс, Письмо В.И. Качалову, 11 февраля 1940 г. (Музей МХАТ. Архив В.И. Качалова).
68. Ave, Московский Художественный театр. «Анатэма» Леонида Андреева и «Месяц в деревне» И.С. Тургенева. — «Сатирикон», Спб., 1909, № 51, стр. 4.
69. Вл.И. Немирович-Данченко, О театре романтическом и реалистическом, 25—26 июля 1940 г. Стенограмма. — «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I. М., 1946, стр. 13.
70. Стендаль, Расин и Шекспир, 1823 (Собр. соч., т. IX, Л., Гослитиздат, 1938, стр. 57).
71. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 10.
В «Братьях Карамазовых» И.М. Москвин играл роль капитана Снегирева («Мочалка»), Л.М. Леонидов — Дмитрия Карамазова, М.Н. Германова — Грушеньку, В.И. Качалов — Ивана Карамазова.
72. Л.Я. Гуревич, Возрождение театра. — «Образование», Спб., 1904, отд. III, № 4, стр. 87.
73. Homo novus [А.Р. Кугель], Заметки о Шекспире. — «Театр и искусство», 1916, № 18, стр. 366.
74. Л.Н. Андреев, Письма о театре. Письмо второе, 21 октября 1913 г. — Литературно-художественный альманах, «Шиповник», кн. 22. Спб., 1914, стр. 255—256.
75. К.С. Станиславский, Собр. соч., т. 1, стр. 346.
76. См.: М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 24, стр. 156.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |